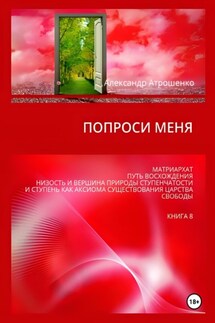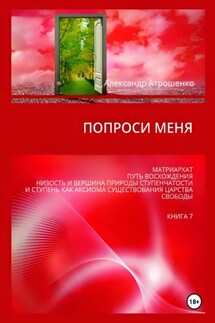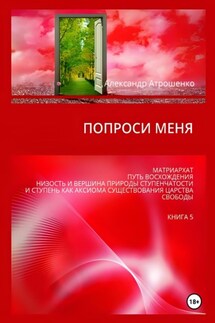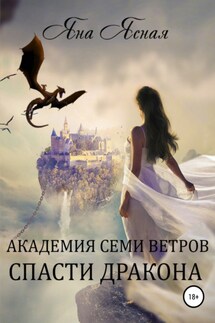Попроси меня. Т. VII - страница 14
В Манифесте по случаю 100-летия «Жалованной грамоты дворянству» Екатерины II, император выражал стремление, чтобы и впредь «Российские дворяне и ныне, как и в прежнее время, сохраняли первенствующее место в представительстве ратном, в делах местнаго управления и суда, в безкорыстном попечении о нуждах народа, в распространении примером своим правил веры и верности и здравых начал народнаго образования»47.
Жесткие меры последовали в отношении печати. По «Временным правилам» от 27 августа 1882 г. (действующие до 1905 г.) правительство создало специальный контрольный орган, ведавший прессой – Особое совещание четырех министров (внутренних дел, юстиции, народного просвещение и обер-прокурора Синода). Этот орган мог делать газетам и журналам предостережение за печатание недозволенных материалов, а после трех предостережений – вводить усиленный цензурный режим или совсем закрыть издание. От политики правительства более всего пострадала демократическая и либеральная пресса. Закрылись популярные «Отечественные записки», «Голос», «Страна» и другие.
В сфере народного просвещения новый министр народного образования И.Д. Делянов делал все, чтобы ограничить само «народное образование», направляя его в русло православного самодержавия. Для этого обер-прокурор Синода Победоносцев, при поддержке Делянова, по правилам от 13 июня 1884 г., подчинил «школы грамоты» церковному ведению. Утверждая «Правила о церковно-приходских школах» император наложил резолюцию: «Надеюсь, что приходское духовенство окажется достойным своего высокаго призвания в этом важном деле»48. Уже в 1882 г. первые суммы поступили на счет Святейшего Синода, ведавшего церковно-приходскими школами. Количество школ росло и в 1894 г. достигло почти 31 тысячи, в них обучалось около миллиона детей (в 1884 г. – 4,4 тысячи со 105-ю тысячами учеников). Вместе с тем финансов не хватало, и церковно-приходские школы часто влачили самое жалкое существование. Победоносцев неоднократно замахивался и на земские школы (существовавшие при земских органах самоуправления, по качеству обучения и материальному обеспечению были лучшей в России начальной школой), но у правительства хватало мудрости оставить их в покое.
Следующая мера коснулась гимназий. Еще граф Д.А. Толстой, будучи главою народного образования, сделал немало, чтобы установить между гимназическим начальством и учениками полицейские отношения. Однако доступ в гимназии (хотя бы теоретически) по-прежнему оставался открыт даже для выходцев из самых низов. Делянов быстро восполнил «пробелы», оставленные его предшественниками. 1 июля 1887 г. был издан «Циркуляр о сокращении гимназического образования», прозванный «Циркуляром о кухаркиных детях». Им предписывалось ограничить доступ в гимназии «детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детей коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию… Что же касается до сокращения числа гимназий и прогимназий… также сделано соображение о возможности закрытия или преобразования оных, смотря по местным условиям и средствам на них отпускаемым…»49 «Каждый сверчок знай, свой шесток» – так расценила циркуляр общественность. Само же правительство исходило из взгляда, что для народного образования «сверх меры» не только не полезно, но и вредно, поскольку способно «развратить» подрастающее поколение. Циркуля исходил из воззрений Победоносцева о необходимости «остудить» российское общество, ограничив передвижение из «неблагородных» слоев населения в разночинцы и студенты, основную движущую силу революционного подъема предшествующих лет.