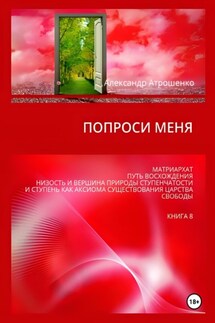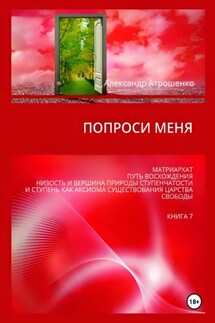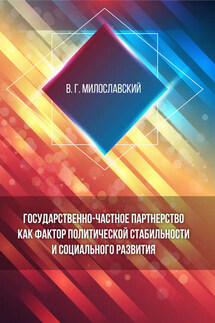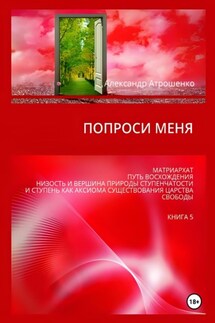Попроси меня. Т. VIII - страница 9
P.S. Для многих (если не для большинства) история развития цивилизации представляется фактором взаимодействия интересов сторон, т. е. взаимодействием силовых полей и их перестановка, что в первую очередь лишь демонстрирует их духовное направление на бога Силы-Энергии. В России эта приобщенность на протяжении истории ярко выражалась в соблюдении интереса т. н. стратегического баланса, т. е. энергетического потенциала, в почитании бога «Техники», в постоянном перенимании с Запада технических инструментариев. Копирование западной техники достаточно долго будет выручать российское общество, ее власть, являвшееся отражением и способом осуществления направления своего народа, пребывавшего в невежественности. Когда же народ начнет осознавать свое приниженное (энергетическое) состояние, он попытается выйти из него, но тем же старым методом технического усовершенствования. Поэтому высшее воплощение этой тенденции, копирования и перенимания передовой техники, в России произойдет в XX в., когда русские скопируют форму изменения состава управления государства, приведя третье сословие к власти, сделав тем шахматную, техническую перестановку сил, новую комбинацию энергетической установки общества, но так и не дождутся улучшения своего миропорядка, оставаясь все тем же техническим инструментарием в руках системы энергии. И ошибается тот, кто в басне Крылова «Квартет» видит лишь неумелые действия власти (тогда это была реформа Государственного совета), когда в действительности она в полной мере относится ко всему обществу в целом. «А вы, друзья, как ни садитесь – Всё в музыканты не годитесь»26.
Гимназию В. Ульянов закончил с золотой медалью (вообще, сильно преувеличенно мнение (особенно во времена СССР) о выдающихся способностях мозга будущего вождя революции; здесь играет роль тренированная с детства память, совмещенное с человеческой индивидуальностью наделения каждого определенными талантами). В характеристике, направленной по запросу университета, отмечалось:
«Весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный, Ульянов во всех классах был первым учеником и, при окончании курса, награжден золотой медалью, как самый достойнейший по успехам, развитию и поведению. Ни в гимназии, ни вне ее не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателях гимназии непохвальное о себе мнение.
За обучением и нравственным развитием Ульянова всегда тщательно наблюдали родители, а с 1886 года, после смерти отца, одна мать, сосредоточившая все заботы и попечения свои на воспитании детей. В основе воспитания лежала религия и разумная дисциплина. Добрые плоды домашнего воспитания были очевидны в отличном поведении Ульянова.
Присматриваясь ближе к образу домашней жизни и к характеру Ульянова, я не мог не заметить в нем излишней замкнутости, чуждаемости от общения даже с знакомыми людьми, а вне гимназии и с товарищами, и вообще нелюдимости.
Мать Ульянова не намерена оставлять сына без себя во все время обучения его в университете»27. Проявивший понимание к Владимиру, директор гимназии Керенский порекомендовал юноше поступать на юридический факультет не в Санкт-Петербурге, а в Казани.
В 1887 г. Ульянов поступает в Казанский университет. Там он быстро слился с группой учащихся, мечтающих о революции. В декабре 1887 г. этой группой в стенах университета было инициировано собрание студентов («сходка»), на котором осудили университетское начальство и государственную власть «за произвол». В знак протеста против якобы сложившихся в университете невыносимых условий Владимир 5 декабря подал прошение «об изъятии» его из числа студентов. За нарушение общественного порядка и антигосударственные действия руководители сходки были исключены из университета. Ульянову было запрещено жить в Казани. Предписывалось поселиться «до особого решения» в имении матери Кокушкино, расположенное в 40 км от Казани, где проживал под негласным надзором полиции до ноября следующего года. Здесь он самостоятельно пополнял свои знания по университетскому курсу, а кроме того, много читал различную литературу. «В бывших у меня в руках журналах, – вспоминал он, – возможно находились статьи и о марксизме, например, статьи Михайловского и Жуковского. Не могу сейчас твердо сказать – читал ли я их или нет. Однако только несомненно – до знакомства с первым томом "Капитала" Маркса и книгой Плеханова ("Наши Разногласия") они не привлекали к себе моего внимания, хотя благодаря статьям Чернышевского, я стал интересоваться экономическими вопросами, в особенности тем, как живет русская деревня»