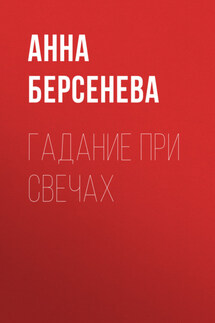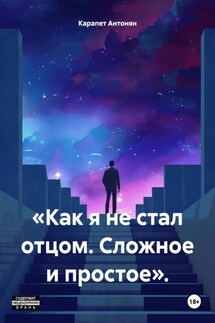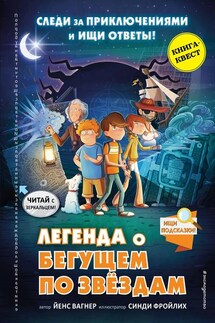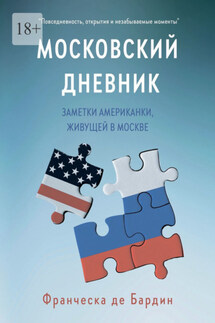Портрет второй жены - страница 43
Глава 7
Сергей Псковитин не мог вспомнить, сколько лет знает Юру Ратникова.
Первое воспоминание о нем было: они дерутся из-за новой Юркиной лопатки, тот пыхтит, краснеет, но никак не может вырвать из рук Сергея свое сокровище. Но, конечно, их знакомство началось не в тот день, а гораздо раньше, потому Сергей и не мог вспомнить…
Потом: первое сентября, они пошли в первый класс, и Сергей после уроков ждет, когда Юра выйдет из школы, чтобы вместе идти домой. Наконец Юрка показывается в дверях, но в руках у него два портфеля – свой и Юли Студенцовой. Юля идет рядом с ним, вид у нее независимый, но и Юрка держится небрежно, как будто это не ее портфель он безропотно тащит.
Сергей смотрит на них и вздыхает: придется идти домой одному, он уже знает, что третий – лишний. Что ж, Юлька хоть и девчонка, но зато самая красивая девчонка не только в классе, но и во всей школе, и во всем их дачном поселке.
Они выросли на одной улице и даже были соседями. То есть это только называлось так – соседи, потому что дома стояли рядом. Но дом, в котором жил Юрка, принадлежал его отцу, начальнику Союза художников и академику Владимиру Сергеевичу Ратникову, а мать Сергея просто сторожила дачу, в которую летом приезжала семья покойного профессора Лукина.
Накануне приезда Лукиных из Москвы Сергей вместе с матерью переходил жить в летний домик, похожий не то на кухню, не то на сторожку, который стоял тут же, в саду. Правда, Лукины никогда не задерживались позже сентября: вдова профессора где-то преподавала, и ей неудобно было жить не в городе. И вообще, она не любила дачной жизни и не чувствовала в ней никакой потребности, так что Сережка долго считал себя настоящим хозяином дачи.
Ратниковы жили здесь постоянно – в огромном деревянном доме, не похожем ни на один дом в поселке. Дом Ратниковых был похож на корабль, и Сергею все время казалось, что он вот-вот оторвется от фундамента и устремится куда-то вперед.
Эльвира Павловна, мать Юрки и его нудной сестры Инги, говорила, что обожает деревенскую жизнь. Но, конечно, та жизнь, которую вели обитатели «поселка академиков», вовсе не была деревенской. Их дети лазали по деревьям, коленки у них постоянно были разбиты, штаны разорваны, и ходили они в ту же школу, что и ребята из соседней деревни. Но на этом сходство и заканчивалось.
Несколько раз в неделю за Эльвирой Павловной приезжала из Москвы черная «Волга», а Владимир Сергеевич ездил в город каждый день. А когда Юрка подрос, к нему стали привозить из Москвы учителя какой-то особенной математики, три раза в неделю.
– Ребенок должен получить приличное образование, – объясняла Эльвира Павловна Сережкиной маме, и та кивала.
Они дружили. Они не просто дружили – все свое детство Сережа помнил как вечное подражание Юрке. Конечно, не потому, что тот был профессорский сынок и у его папаши была персональная машина. Он был не такой, как все, ни один мальчишка ни из деревни, ни из «академки» не был на него похож. Сергей не понимал, в чем состоит эта непохожесть на всех, как никогда не мог с уверенностью сказать, что придет Юрке в голову в каждую следующую минуту.
– Оторви да брось, – укоризненно говорила о Юрке Сережкина мать. – Из такой приличной семьи, а вот надо же, оторви да брось!
Двенадцатилетний Сергей не спорил с матерью, но и не верил ей. Все, что делал Юрка, было необыкновенно. Казалось, он и не представлял, что жизнь может быть обыкновенной, все вокруг него вертелось колесом.