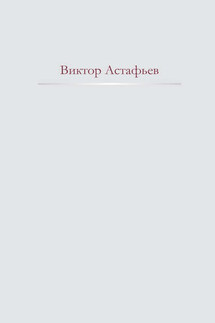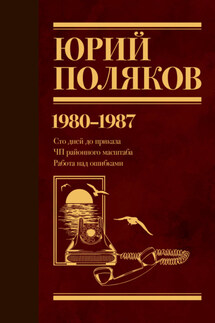Последний поклон - страница 74
И я завыл. Сначала тихонько, по-щенячьи, затем и в полный голос.
– Так я и знала! Так я и знала! – проснулась и заворчала бабушка. – Я ли тебе, язвило бы тебя в душу и в печенки, не говорила: «Не студися, не студися!» – повысила она голос. – Так он ведь умнее всех! Он бабушку послушат? Он добрым словам воньмет? Загибат теперь! Загибат, худа немочь! Мольчи лучше! Мольчи! – Бабушка поднялась с кровати, присела, схватившись за поясницу. Собственная боль действует на нее усмиряюще. – И меня загибат…
Она зажгла лампу, унесла ее с собой в куть и там зазвенела посудою, флакончиками, баночками, скляночками – ищет подходящее лекарство. Припугнутый ее голосом и отвлеченный ожиданиями, я впал в усталую дрему.
– Где ты тутока?
– Зде-е-е-ся. – по возможности жалобно откликнулся я и перестал шевелиться.
– Зде-е-еся! – передразнила бабушка и, нашарив меня в темноте, перво-наперво дала затрещину. Потом долго натирала мои ноги нашатырным спиртом. Спирт она втирала основательно, досуха, и все шумела: – Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? – И одной рукой натирала, а другой мне поддавала да поддавала: – Эк его умучило! Эк его крюком скрючило? Посинел, будто на леде, а не на пече сидел…
Я уж ни гугу, не огрызался, не перечил бабушке – лечит она меня.
Выдохлась, умолкла докторша, заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои ноги старой пуховой шалью, будто теплой опарой облепила, да еще сверху полушубок накинула и вытерла слезы с моего лица шипучей от спирта ладонью.
– Спи, пташка малая, Господь с тобой и анделы во изголовье.
Заодно бабушка свою поясницу и свои руки-ноги натерла вонючим спиртом, опустилась на скрипучую деревянную кровать, забормотала молитву Пресвятой Богородице, охраняющей сон, покой и благоденствие в дому. На половине молитвы она прервалась, вслушивается, как я засыпаю, и где-то уже сквозь склеивающийся слух слышно:
– И чего к робенку привязалася? Обутки у него починеты, догляд людской…
Не уснул я в ту ночь. Ни молитва бабушкина, ни нашатырный спирт, ни привычная шаль, особенно ласковая и целебная оттого, что мамина, не принесли облегчения. Я бился и кричал на весь дом. Бабушка уж не колотила меня, а перепробовавши все свои лекарства, заплакала и напустилась на деда:
– Дрыхнешь, старый одер!.. А тут хоть пропади!
– Да не сплю я, не сплю. Чё делать-то?
– Баню затопляй!
– Середь ночи?
– Середь ночи. Экой барин! Робенок-то! – Бабушка закрылась руками: – Да откуль напасть такая, да за что же она сиротиночку ломат, как тонку тали-и-инку… Ты долго кряхтеть будешь, толстодум? Чс ишшэш? Вчерашний день ишшэш? Вон твои рукавицы. Вон твоя шапка!..
Утром бабушка унесла меня в баню – сам я идти уже не мог. Долго растирала бабушка мои ноги запаренным березовым веником, грела их над паром от каленых камней, парила сквозь тряпку всего меня, макая веник в хлебный квас, и в заключение опять же натерла нашатырным спиртом. Дома мне дали ложку противной водки, настоянной на борце, чтоб внутренность прогреть, и моченой брусники. После всего этого напоили молоком, кипяченным с маковыми головками. Больше я ни сидеть, ни стоять не в состоянии был, меня сшибло с ног, и я проспал до полудня.
Разбудился от голосов. Санька препирался или ругался с бабушкой в кути.
– Не может он, не может… Я те русским языком толкую! – говорила бабушка. – Я ему и рубашечку приготовила, и пальтишко высушила, упочинила все, худо, бедно ли, изладила. А он слег…