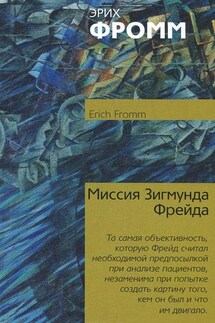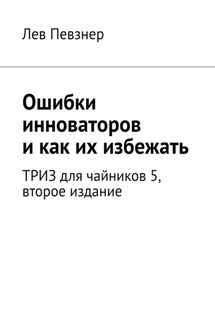Potestas clavium (Власть ключей) - страница 9
Вот тут-то и лежит вся трудность вопроса. Точно ли мыслящий тростник должен быть для философии quantite negligeable? Я готов вслед за Паскалем признать тростник как угодно малым и как угодно слабым, равно как я готов согласиться, что голос Псалмопевца, взывавшего из пропасти, терялся в бесконечных пространствах вселенной. Но если и признать все это – загадка останется загадкой и тайна тайной. Даже наиболее позитивно настроенный ученый не станет отрицать, что достаточно было бы только одному лучу света отклониться в своем следовании от прямой линии, чтобы опрокинуть всю научную теорию света. А ведь тут – при сложении людей – на наших глазах ежедневно один и один дает в результате три, даже четыре, пять и более. Арифметика правомочна только в подвластном человеку мире «идеального» – может быть, главным образом даже исключительно потому, что этот мир самим человеком и создан и потому покорен своему творцу. В мире же реальном иерархия другая. Там «больше» то, что в мире идеальном меньше. Там вообще законы – другие, быть может, туда с законами и соваться не всегда дозволительно, ибо монастырь-то ведь чужой и уставов наших там знать не хотят. Вот как апостол Павел учит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто… Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1-е Кор., XIII, 1–2, 8). Вы обиделись, как могу я противуставлять научным теориям слова невежественного иудея? Ну что же? Если вам необходим научный авторитет, послушайте Платона, который за 500 лет до Павла высказал почти в той же форме ту же мысль: «захотел ли бы кто-нибудь из нас жить, если бы ему были даны в удел вся мудрость, весь разум, все знание, какое можно иметь, но под условием, чтоб он совершенно не испытывал ни малой, ни большой радости, равно как ни малого, ни большого горя и вообще никакого чувства в таком роде?» (Phil. 21d). И вот Платон, так же как и апостол Павел, отказывается и от мудрости, и от разума, и от знания, если только условием всего этого является отречение от радостей и горя, т. е. от «случайностей» индивидуального, отдельного, значит, опять же «случайного» бытия. Скажут, что у Платона это тоже «случайная» обмолвка, что приведенным словам можно противупоставить многочисленные цитаты из других его сочинений. Конечно, можно! Но ведь смысл настоящих размышлений в том и состоит, чтоб выловить и спасти от забвения «случайное». Еще скажут, что все это темно, что я не соблюл декартовского правила, требующего ясности и отчетливости в суждениях. На это я возражать не стану. Напомню только исходный пункт декартовского мировоззрения: «apud me omnia fiunt matematice in Natura».[19] Этим объясняется вся его методология. Паскаль, тоже гениальный математик, думает иначе: «je n’aime que ceux, qui cherchent en gémissant».[20] Соответственно тому и мир и. знание ему представляются иными. «L’homme cherche partout avec inquiètude et sans succès dans les ténèbres impénetrables».[21] Такова наша судьба, таково наше предназначение. А потому, «qu’on ne nous reproche donc plus le manque de clarté, puisque nous en faisons profession».