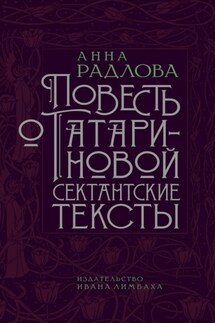Повесть о Татариновой. Сектантские тексты - страница 6
В скопческой песне:
Очевидно, что Радлова заимствовала этот текст из полюбившегося ей номера 713 коллекции Рождественского и Успенского. Но читатель слышит здесь и рефрен пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», – скопческий вариант даже ближе к пушкинскому. Этот интертекстуальный казус допускает две интерпретации. Вполне вероятно, Пушкин знал вариант этой скопческой песни, которая в какой>-то форме должна восходить ко временам Елизаветы или Екатерины; но не исключено и то, что сами скопцы внесли в свою песню мотив пушкинской сказки. Такой случай обратного влияния литературы на фольклор совсем не уникален. Выделив этот текст среди сотен других, Радлова узнала это удивительное пересечение текстов и, пользуясь своими методами, продемонстрировала его читателю. Она вообще любила ссылаться на Пушкина: уговаривая Елисавету вернуться на царство, Разумовский цитирует узнаваемые формулы, какими склонял к браку и короне пушкинский самозванец свою полячку; сходное происхождение имеет и Пятая сцена, разговоры у плахи.
Но все же литературный текст, как бы близок он ни оказывался фольклорному источнику в отдельных своих деталях, подчиняется иным законам; и Радлова хорошо это знает. «Богородицын корабль» и «Повесть о Татариновой» скреплены фигурой героини и крутящимся вокруг нее эротическим сюжетом. Эта романная структура, без которой фабула рассыплется на атомарные составляющие, чужда хлыстовским и скопческим распевцам. Песня РУ713 описывает превращение Елисаветы Петровны в Акулину Ивановну, не вводя в действие других персонажей. Императрица-Богородица принимает свое решение, движимая безличным «небушком», и адресуется она безличным «всем» («Подала всем свое учение, Всех избавила от мучения»). В отличие от скопческой песни, пять сцен драмы Радловой рассказывают о любви мужчины к женщине; о подвиге, который совершает женщина, отказываясь от этой любви; и о предательстве и позднем раскаянии мужчины.
Острее многих современников Радлова интересовалась тем, что сегодня называют гендером. На подчиненное положение женщины она отвечала гиперболической конструкцией, утверждавшей женскую власть над мужчиной; духовное превосходство изображенной ею женщины превращало мужчину в Иуду, который предает, не понимая ее подвига. На деле, связь императрицы Елизаветы Петровны с Алексеем Разумовским была необычной и трогательной страницей российско>-украинской истории. Сын казака, бежавший от побоев отца, Разумовский был увезен в столицу проезжим полковником, плененным его красотой и голосом, и в итоге стал тайным супругом императрицы. Согласно легенде, у них была дочь – княжна Тараканова. Безмерно возвышая женщину, конструкция Радловой принижала мужчину, лишая его не только мистических функций, но и обычных способностей понимания и действия.
Как раз тогда, когда Радлова писала эту драму с ее классическим диалогом солиста-жертвы и Хора-народа, ее муж использовал свое понимание архаики греческого театра для постановки авангардных действ, которые он называл «народной комедией», а иногда и «всенародной трагедией»[13]. В поставленном Сергеем Радловым массовом зрелище «Блокада России» (1920) актеры-маски общались с Хором, состоящим из красноармейцев; в зрелище «К мировой коммуне» (1920) участвовали четыре тысячи статистов, в «Победе революции» (1922) – полторы тысячи. По словам влиятельного критика, созданный Радловым в 1920-м театр «имел целью возрождение техники площадного театра в условиях революционной современности»