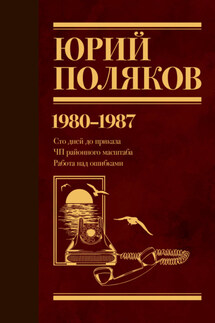Повести. 1941–1942 годы - страница 30
В землянке помкомбата, в которую спустился он погреться, народу невпроворот: и ротные, и политруки остальных рот, и ПНШ из батальона. Дым махорочный – хоть топор вешай. Сидят, курят, нервничают.
– Вот что, комиссар, – обращается он к своему политруку. – Сходи четинский взвод проверь. Как они там? Только овраг осторожней перемахивай. Ты мне в бою будешь нужен. Понял?
– Понял, – поднимается политрук, делает несколько коротких затяжек и выбирается из землянки.
Коншин идет по тропке, не глядя по сторонам, боясь наткнуться взглядом на убитых, и думает, что, пожалуй, самое страшное, что он увидел на передовой, это они…
И как что-то очень далекое, будто бы и не бывшее, вспоминается ему дальневосточный полк, ленинская комната в казарме, где строчили они свои докладные с просьбами отправить их на фронт срочно… Жалеет ли он о том, колет ли грудь запоздалое сожаление? Нет, пожалуй. Несмотря на все увиденное, вроде бы страшное, отчего душу захолаживает, он с удивлением обнаруживает, что все это, как ни странно, интересно ему. Да, интересно! Другого слова и не подобрать. Даже предстоящее наступление, которого страшится, мысли о котором старается отгонять, даже оно. Как поведет он себя в бою, как заставит себя подняться с земли, как побежит по этому полю? И даже сейчас, перед боем, бродит в его голове мальчишеское – что покажет он себя, что совершит что-то необыкновенное… Но главное, конечно, не струсить. Это сейчас для него пострашнее смерти.
– Коншин! – окликает кто-то. Он поворачивается и видит политрука, забившегося под лохматую ель. Тот курит частыми, нервными затяжками, в глазах растерянность. – Потери есть во взводе?
– Нет, обошлось.
– Залезай, перекурим. Ты куда направился?
– Народ вас спрашивает или ротного. Вот и иду…
– Сейчас пойдем, а пока залезай.
Коншин приподнимает ветви и забирается под ель. Садится. Политрук молча протягивает кисет с легким табаком. Закуривают и некоторое время попыхивают цигарками молча. Политрук нервно теребит пальцами портупею, потом тяжело откашливается.
– Четина убило, – говорит он глухо, продолжая кашлять.
– Что? – вскакивает Коншин.
– На тропке он. В нескольких шагах отсюда.
И Коншин бежит. Лейтенант лежит на спине. Коншин не видит на его теле ни раны, ни крови, но лицо уже посеревшее, и так же обиженно опущены пухлые губы, как на последнем привале, когда он спал… Коншин долго стоит потрясенный, – первая смерть… И чья? Этого тихого мальчика, к которому и Коншин, да и весь взвод относились так несправедливо, с насмешками и подковырками. Прищемила запоздалая жалость. Долго протирает глаза Коншин жесткой рукавицей, потом наклоняется над Четиным, подбирает его автомат, планшет и плетется обратно.
– Первый… – тихо произносит политрук.
– Да.
– Взвод теперь твой. Пошлем бумагу, чтоб провели приказом.
Коншин устало и безразлично махнул рукой.
– Не радуешься?
– Нет. Ответственности боюсь.
– А ты не бойся. Сколько ты в армии?
– Почти три…
– Это кое-что значит. И курсы кончал… А бедняга Четин, наверное, только три месяца обучался… Ну, пошли, – поднимается политрук. – Как настроение у народа?
– До обстрела маялись, а сейчас вроде ничего…
Подходят к оврагу. Политрук замедляет шаг и проходится глазами по убитым.
– Простреливается? – спрашивает коротко и чуть поеживается.
– Ага. Пустил очередь, когда я перебегал.
– Ну, с Богом, – усмехается политрук и спокойно спускается со взгорка. Коншин за ним. Падают на той стороне.