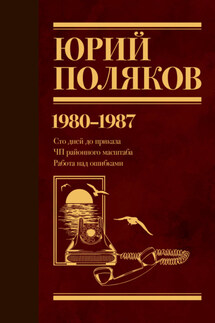Повести. 1941–1942 годы - страница 7
– Панихиду-то немцу рано заказывать, – проворчал кто-то, тоже из пожилых.
– А может, не рано. Я вот уверен: придем мы, кадровые, дадим прикурить, – стоявший боец сказал это серьезно.
– Ладно, недолго осталось, посмотрим на тебя в бою, «прикурило», – усмехается пожилой и выплевывает цигарку.
– Посмотрите. Это вы самолетов немецких боитесь, в рукава цигарки прячете, будто увидит он с высоты.
– Да ты бомбежки настоящей еще не нюхал.
– Я в эшелоне трассирующими по брюху «мессеру» бил, пока вы в снегу барахтались.
– Что-то не видал…
– А я видел. Верно, стрелял, – вступил в разговор один из молодых бойцов. – Ванюха не сдрейфил. Что было, то было.
Ванюха расплылся в улыбке.
– Хочешь, Ванюха, судьбу твою скажу? – это все тот пожилой, усмехаясь.
– Говори.
– Либо ты первую пулю получишь, либо первый орден. Понял?
– Ты не пугай насчет пули, а в смысле ордена, может, и получу. Воевать так воевать…
А колонна тем временем все растягивается и растягивается… Недохват еды, сна, тепла – все это сказывается на третьи сутки, и люди выбиваются из последних сил.
Комроты Кравцов подходит к Коншину:
– Своего лейтенанта устрой на подводу. Хромой он мне на передке не нужен. И вообще, подтяни людей.
– Есть лейтенанта на подводу! Есть подтянуть людей! – Коншин повторяет приказание подчеркнуто точно, и Кравцов глядит на него одобрительно. – Последняя ночь, товарищ старший лейтенант?
– Да, – негромко подтверждает ротный.
– Значит, послезавтра бой?
– Выходит, так… Боязно? – Кравцов чуть улыбается.
– Как вам сказать? Наверно…
– Не наверно, а наверняка. Но ничего. Учти, – на тебя надеюсь. Четин слаб на изломе. В случае чего – взвод сразу тебе передам. Понял?
– Понял! – расплывается Коншин в улыбке, и опять какие-то мальчишеские думки о том, что должен он совершить на войне что-то необыкновенное, пробегают в голове и забивают то тревожное, что не покидает всю дорогу.
Много передумалось Кравцову за эти три ночи, но о родителях вспомнилось почему-то только на третью, последнюю. О том, что плохо в деревне и что теперь, когда он комроты и получает полевые, надо бы часть аттестата послать старикам. До войны-то из шестисот комвзводовских не мог он помогать в деревню, сам, бывало, не прочь был пообедать в красноармейской столовой, что, конечно, не разрешалось, кроме тех дней, когда дежурил по части и снимал пробы. Отписать бы Дуське, чтоб послала хоть рубликов триста, но не пошлет же, больно охоча Дуська и до жизни, и до денег. И дает себе слово старший лейтенант Кравцов, что, как поставят его на батальон, непременно старикам выделит половину аттестата.
Коншин подходит к Четину:
– Товарищ лейтенант, вам на подводу надо…
– Дойду, – кривится от боли Четин.
– Ротный приказал, – мягко, начиная жалеть взводного, произносит Коншин и берет его под руку.
Пропустив колонну, он усаживает лейтенанта в сани санротовские, а сам идет вдогон роте.
Красноармеец Филимонов тоже отстает, и Коншин бросает ему на ходу:
– Подтянитесь, Филимонов, – на что вместо уставного «есть» слышит надоевшее:
– Куда спешить? Все там будем.
Коншин останавливается и выразительно смотрит на него.
– Чего смотрите, командир? Мне не двадцать годков, как вам. Погонять-то вы все умеете, а вот спросить, что с человеком, нет вас.
– Что же с вами, Филимонов?
– Что, что! Устал я, мочи нет.
– Все устали, – говорит Коншин, а потом, видя, что и действительно лица нет на Филимонове, добавляет: – Ладно, дождитесь лейтенанта, он в санротовских санях, к нему присядете.