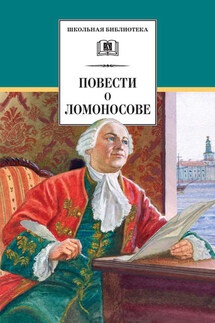Повести о Ломоносове (сборник) - страница 8
Ему вспоминалось то, что говорил его амстердамский друг. И так же как и тогда, он отрицательно покачивал головой и повторял ту же фразу: «Piter. Kaptein Piter»[12]. Так он отвечал в Амстердаме старому приятелю, рассказывавшему ему о России.
Все сделал Петр. Один. Но он умер. Об этом говорил капитан. И что? Россия победила Швецию? Полтава?* Гангут?* Да! Но победа в войне – не полная победа. Она иногда может быть даже обманчивой. Даже вредной. Народ должен уметь победить в труде. Вот настоящая победа! Созидание. А для этого нужны науки. Есть они в России? Только тот народ достоин будущего, который способен рождать собственных Платонов, Ньютонов. Да и есть ли у Петра преемник?
И недоверчивый капитан качал головой.
Нет…
Все это и вспоминается ему сейчас. Он медленно обводит подзорной трубой все протяжение берега и снова качает головой. На его лице надменная усмешка.
Нет…
Капитан поворачивается к реке. Первый, второй, третий парус прошли в кругу подзорной трубы. Ненадолго взгляд капитана бригантины задерживается на двухмачтовом судне, ловко сделавшем сложный маневр. Но уже через мгновение взор его безразлично скользнул по фигуре стоявшего у руля молодого кормщика, даже не остановившись на выведенном по борту названии «Чайка». И снова немало на своем веку повидавший голландский капитан отрицательно покачал головой.
Нет…
Глава вторая
ОБОЖЖЕШЬСЯ – ТОЖЕ УЧЕНИЕ
Пройдя полосу до того места, где луг упирался в частый низкий кустарник, Михайло поднял косу, отер ее пучком срезанного осота, положил на плечо и пошел по скошенному полю вниз, к дороге.
Над лугом стоял запах только что упавшей под косой росистой мягкой травы. Открывшаяся земля сильнее отдавала сыростью. От корней тянуло застоявшейся прелью и сладким духом почвенных соков. Поднявшееся уже высоко июльское солнце провяливало длинные ряды травы, которыми вплоть до леса был уложен луг.
Время близилось к полудню, надо было кончать на сегодня сенокос. Роса с травы уже сходила.
Дойдя до ветвистой ветлы, которая стояла у самой дороги, Михайло присел отдохнуть, выпил квасу из глиняного запотевшего кувшинчика, вытер губы рукавом холщовой рубахи, смахнул соленый пот, который каплями струился по лбу и ел глаза, и устало и сладко потянулся.
На соседней пожне*, не замечая, что Михайло уже кончил работу, широко махал косой деревенский сосед Ломоносовых, Шубный.
– Эй, эй! Иван Афанасьевич! Кончать пора!
Когда Шубный и Михайло уже вышли на дорогу, которая изгибом подходила почти к самой ломоносовской усадьбе, из-за поворота навстречу им показался одетый в заплатанную рубаху старик. За спиной на двух веревках у него болтался заплечный мешок. Старик шел тяжело, опираясь на посох. Михайло и Шубный не сразу его узнали.
– Э-э, Михайло! – приветливо сказал старик.
– Дядя Егор…
– Чай, не признал?
– Да малость ты…
– Верно, верно. Полтора года странствую. И в стужу, и в мокрядь. Не красит, не красит… Ох, нет! В скитах был, в скитах*. Спасался. От мерзости. Отдохну теперь – опять пойду. В Выговскую пустынь* пробираться буду. Там, у Денисовых, древлее благочестие[13] блюдется. Пойдешь со мной?
– Зачем Михайле в Выговскую пустынь? – спросил Шубный.
Старик только хмуро поглядел на него, не удостоил ответом и продолжал:
– Был я в Пустозерске, где протопоп Аввакум* жил и в огне преставился, не желая принять никонианскую ересь. Мученическую смерть прияв, во блаженстве теперь обретается. Вот щепу от ограды дома, в котором Аввакума сожгли, несу.