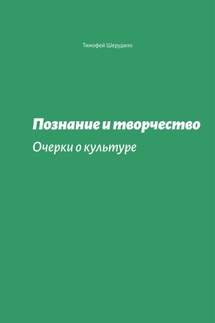Познание и творчество. Очерки о культуре - страница 2
II. Неизвестное
В последние несколько столетий все говорят о «познании», о «картине мира», однако справедливости ради надо сказать, что наше незнание, наши представления о неизвестном или хотя бы вера в существование этого неизвестного не менее важны, чем познание и картина мира. Неизвестное на этой картине составляет задний план, основу, поверх которой накладываются краски, и которая тут и там просвечивает на местах, где красок не хватило – вернее, там, где художник не знал, что изобразить. «Просвещение», как определенное наклонение ума, как некоторая интеллектуальная вера, мечтает о мире, в котором неизвестное или отсутствует, или существует только временно; его цель – полное знание, а затем и покорение мира. Что мы познаем, тем сможем управлять. Смотреть на мир научно, значит видеть в нем механизм, устройство которого мы знаем не полностью, однако со временем сможем узнать. Тогда мир станет управляемым, человек воистину станет «яко Бог»… и будет сходить в могилу, удовлетворенный властью над звездой и над мельчайшей песчинкой. (Словом, это то, о чем с таким подъемом писала научная фантастика прошлого века, в особенности Лем и братья Стругацкие. Не касаюсь здесь вопроса о том, насколько всевластие способно дать человеку счастье. Лично я в этом очень сомневаюсь.) Иными словами, научная картина мира – картина, не имеющая фона. Здесь всё – на поверхности; всё неизвестное заключено в уже известном, и нет такого слоя, на котором нельзя было бы разглядеть очертаний картины в целом. Научно понимаемый мир, можно без преувеличения сказать, есть мир без тайны.
Думаю, даже картонный меч не следует поднимать против этой фантазии. Это так же неправдоподобно, как учение Руссо об природной доброте человека, как вера в неподверженное заблуждению «большинство голосов», как «исторический материализм» в качестве последнего объяснения общественного развития… Однако вера в это неправдоподобное выросла и ныне господствует над умами; догмат отсутствия тайны, если так можно сказать, не подвергается сомнению. Соблазн наших дней – ложное всеведение, вера в науку, как обладательницу знания обо всём. Нет глупости или нелепости, которую нельзя было бы ввести в обиход, снабдив ее словами: «наукой доказано». Исчезновение тайны уничтожило умственный горизонт и связанное с ним чувство перспективы. Тайна была таким горизонтом, по мере приближения к которому все умственные представления умалялись, меркли в тумане, чтобы постепенно сойти на нет. Чувство неведомого на горизонте облагораживало ум, предохраняя его от самообмана.
К. Леонтьев некогда недобро шутил об исследовании «нервной системы морского таракана» как образцовом примере получения ненужных познаний, и предсказывал время, когда тяга к подобным исследованиям пропадет. Но в «таракане» ли дело? Исследования мельчайших мелочей сами по себе не дурны и не хороши – до тех пор, пока мы признаём