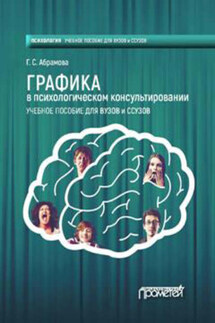Практическая психология - страница 3
Так, мы знаем о 3. Фрейде из его текстов или текстов о нем, но это – превращенные формы его реального знания психической жизни больных людей. Как он воспринимал реальность науки, своей жизни как человека? Какова реальная реальность его собственной жизни? Вряд ли мы можем восстановить это из его текстов.
Вот и получается, что вопрос о критерии истины в психологии связан с существованием в психическом каждого человека науки таких превращенных форм его же собственного сознания, которые могут быть не даны в самонаблюдении, но будут действовать и определять сознание, поведение и даже качества личности.
Эта проблема обсуждается в работах многих философов, я сошлюсь только на М. К. Мамардашвили.
Сегодня феномен психической смерти достаточно хорошо описан и, если он присутствует в сознании человека науки, то… Хотелось бы написать «бедная психология», но я выдержу стиль и прибегну к ссылке на С. Франка, в которой, по-моему, описаны даже действия по построению психической реальности как предмета науки; места психической смерти там нет:
«Пережить», «прочувствовать» что-либо – значит знать объект изнутри в силу своей объединенности с ним в общей жизни; это значит внутренне пребывать в том надиндивидуальном единстве бытия, которое объединяет «меня» с «объектом»; изживать само объективное бытие.
Понятие этого живого знания как знания жизни, как транссубъективного исконно-познавательного, надындивидуального переживания столь же важно в гносеологии, как и в психологии. При свете этого понятия мнение об исключительной субъективности и замкнутости душевной жизни обнаруживается как слепой предрассудок».
Мне очень радостно было читать эти слова: «живое знание», «живая жизнь»… Они словно еще раз возвращают в психическую реальность ее главное качество, а, следовательно, и все, что с ним связано – боль, смерть, страдание, горе, восторг, здоровье, силу и многое из того, что перечеркивалось сразу, как только заходил разговор о методологических основаниях науки. Само мышление о человеке требует и правил и свободы, верифицируемое и недосказанности одновременно. Так хочется, чтобы это было в форме осознанного идентифицирования человека, науки с идеалами культуры. Так хочется, чтобы психология – наука – не стала немым орудием в руках манипуляторов индивидуальным и общественным сознанием, ведь пишет же коллега в научном журнале, обращаясь ко всем нам: «Психология вполне повзрослела… Настала пора проявить личность, а значит, выбрать и осознать общие смыслы и ориентиры движения, понять и честно (подчеркнуто мной – А. Г.) признать, какому образу человека мы собираемся служить, соответствовать нашей профессиональной деятельностью». Я бы добавила, какому Я в собственном Я мы собираемся служить и уже служим.
1. Братусь Б. С. К проблеме человека в психологии // Вопросы психологии. 1997. № 5.
2. Зияченко В. П., Моргунов Б. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. – М.: Тривола, 1994.
3. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М., 1990.
4. Образование и наука на рубеже 21 века: проблемы и перспективы. – Мн., 1997.
5. Рассел Б. Словарь разума, материи, морали. – Киев: Port-Royal, 1996.
6. Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. – СПб.: Наука, 1993.
7. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990.
8. Хомская Е. Д. О методологических проблемах современной психологии // Вопросы психологии. – 1997. № 3.