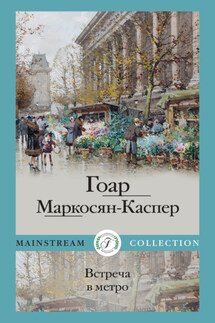Практическое христианство для мирян, или Письма из иной реальности - страница 51
9. Человек, отрицающий Церковь, считает мерилом правильности и праведности самого себя. Он думает, что может видеть и исправлять свои грехи самостоятельно, т. е. своей собственной духовной силой. И что смирение и раскаяние перед самим собой и есть подлинная духовная жертва и достаточная духовная практика. Ни разу не причастившись, он осуждает причастие, не повенчавшись, считает венчание лишь устаревшим обычаем. Одним словом, такие люди не понимают, что за формой таинств всегда скрывается духовное содержание. Бесцерковные христиане, словно барон Мюнхгаузен, всю жизнь стараются сами себя вытаскивать из духовного болота за волосы, тем самым только глубже уходя в трясину своих грехов.
…….
10. Самым известным бесцерковным христианином в истории России, отрекшимся от православия, является, безусловно, Лев Толстой. Я попробую прокомментировать его ответ Синоду, который стал литературной реакцией Толстого на отлучение от церкви и до сих пор является «катехизисом» бесцерковных христиан, а также всех, кто считает, что любой человек, прочитавший Новый Завет с молитвословом и часок постоявший в храме на службе, уже достаточно разбирается в христианстве, для того чтобы его судить.
11. Толстой, как и многие его образованные западноевропейские современники, считал, что в основе мировых религий лежат некие сформулированные их создателями ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ учения. К одному из таких учений он и относил христианство. Расценив ритуальную часть православия как пустые, не имеющие внутренней сути обряды и заключив из этого, что православная церковь отклонилась от учения Христа, он решил воссоздать это учение своими силами и заново.
Наверное, так будут поступать наши далекие потомки, которые захотят переоткрыть для себя учение, например, Карла Маркса. Они будут изучать его труды и, пытаясь уловить их интеллектуальную суть, будут стараться переформулировать все его идеи, исходя из современного им понимания политэкономии.
12. Однако две тысячи лет назад интеллектуальная реальность была совсем иной. Людские умы были не так развиты, но и не так высокомерны. Христианство, в отличие от марксизма, – это не набор идей. Это способ ПРАКТИЧЕСКОГО познания БОГА-реальности, потому что иного способа познания, кроме практического, просто не существует. Познавая чьи-то идеи о Боге, вы познаёте лишь ИДЕИ, а не самого БОГА.
Разве Христос оставил нам свои рассказы, очерки или философские сочинения, которые мы можем воспринимать в качестве его учения? Разве разрозненные воспоминания о жизни человека, написанные другими людьми, и есть Его собственное учение? Если бы Христос хотел, чтобы мы познавали христианство по книгам, разве не смог бы он уединиться в пустыне и написать для нас множество произведений? Христос пришел на землю, чтобы создать нечто гораздо большее, чем учение. Он создал Церковь и передал ей силу-знание, которую мы называем Благодать или Святой Дух. Эта сила и духовна и материальна одновременно. Духовна, потому что мы ее не видим простым зрением. Материальна – в том смысле, что мы ощущаем ее, не выходя за рамки материального мира.
Церковь же Христова есть как бы сосуд, в котором содержится практическая часть Его учения и с помощью которого оно пребывает в мире людей.
13. Догматическая же часть учения была сформулирована гораздо позднее, как попытка изложить языком интеллекта то, что в интеллект вообще-то вписывается плохо, а иногда не вписывается совсем. Учение в виде набора догм нужно скорее для борьбы с лжеучениями, чем для познания истины. Ведь резкое увеличение количества христиан закономерно привело к увеличению в их рядах тех, кого причислить к христианам можно лишь по формальным признакам. Тогда и сейчас существенная часть людей, называющих себя христианами, воспринимала и воспринимает христианство не как Путь, а как принадлежность к народу, государству, культуре или просто как необходимость хотя бы на словах следовать определенной системе нравственных ценностей.