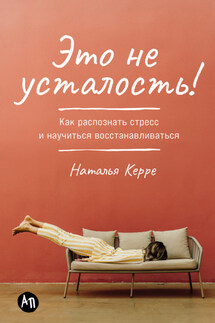Предприятие и иные имущественные комплексы как объекты гражданских прав - страница 20
В целом же можно заключить: в первой трети прошедшего десятилетия нормативная база была подведена к тому, чтобы перевести термин «предприятие» с юридического лица на некоторое обособленное имущество уже окончательно.
§ 2. Предприятие в гражданском праве современной России
Действующее законодательство Российской Федерации рассматривает предприятие в качестве особого объекта гражданских прав. Гражданский кодекс РФ[56] характеризует предприятие как имущественный комплекс, который используется для осуществления предпринимательской деятельности и в целом считается недвижимостью; в состав предприятия входят все предназначенные для его деятельности виды имущества, «включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания) и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором»(ст. 132). Постановления эти дают понять, что наша цивилистика, следуя западной традиции, отказалась от признания предприятия субъектом правовых отношений.
В основе такого подхода – концепция, выработанная немецкой доктриной частного права, по которой предприятие определяют как имущественный комплекс и в качестве средства для хозяйственной деятельности признают только объектом гражданских прав[57]. В некотором смысле это идет вразрез с выгодой предпринимателей, поскольку, как отмечалось в литературе, всякий из них имеет интерес ограничить свою ответственность по обязательствам, связанным с эксплуатацией отдельного предприятия, только имуществом, входящим в его состав[58]. Однако коммерческий оборот в большей мере заинтересован признавать предприятие именно объектом гражданских прав. Не дать такого признания означало бы, что открытие предприятия нужно считать безвозмездной уступкой части имущества новому субъекту, которым предприниматель не вправе распоряжаться как целым. Отсюда, как отмечала Е. А. Флейшиц, стало бы невозможно обосновать право коммерсанта на доход от предприятия[59]. Так или иначе, но закон не допустил юридического раздвоения предприятия вполне обоснованно: объект права не должен быть в то же время правовым субъектом, поскольку, по логике, тот, кто находится в обладании стороннего лица, не свободен сам совершать сделки.
Нужно, однако, упомянуть, что наряду со ст. 132 термин «предприятие» использован в Гражданском кодексе и применительно к названию тех коммерческих организаций, которые не имеют права собственности на закрепленное за ними имущество и пользуются им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Последние именуются государственными или муниципальными унитарными предприятиями. В таком словоупотреблении видят иногда просчет законодателя, затруднившегося найти более емкое, чем «предприятие», слово в выражении сути некоторых организаций. Но, думается, большого огреха тут нет, и правоприменительные трудности на этой почве вряд ли возникнут – стало уже привычным обозначать соответствующие юридические лица только сочетанием слов «унитарное предприятие».
Вместе с тем надо отметить, что в разграничении понятий «предприятие» и «юридическое лицо» Гражданский кодекс не совсем последователен. Это видно из ст. 300 ГК, которая упоминает о праве собственности на унитарное предприятие (как, впрочем, и на учреждение), в отличие от ст. 113 (п. 5), 114 (п. 8), 120 Кодекса, говорящих о правах собственника не на сами юридические лица, названные выше, а только на закрепленное за ними имущество. Как следствие, и в научных публикациях обозначенные понятия не всегда строгим образом разделяются