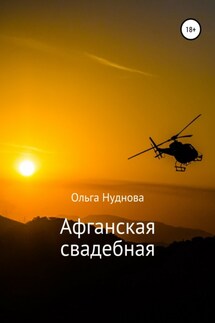Пригоршни из туесков памяти. Части первая, вторая и третья - страница 2
Побывали:в родной школе, в знакомых классах, где уже в середине июля был проведён ремонт, полы сверкали и пахло, как и раньше перед началом учебного года, свежей краской; в промхозе – заглянули в кабинет директора, где работал отец; в нашем старом доме – где, как и прежде, живёт семья директора школы; в администрации села – ранее назывался сельсовет; в магазине – на месте бывшего «сельпо», где стояли в очередях за хлебом (в конце лета – перед «шишкованием») и дефицитными товарами.
Поклонились на кладбище могилам тех, кого, к сожалению, не застали в живых, но кого помним, уважаем и может быть кому в своё время не успели сказать тёплые и благодарственные слова…
Поговорили со многими – с кем успели за эти дни встретиться, поздороваться, узнать друг друга и обрадоваться этой редкой и почти невероятной, но, к счастью, действительно предоставленной нам жизнью возможностью.
Съездили, как и в ранишние времена – как «выезд в свет» – на курорт Ямаровка, что в десяти километрах. Попили знакомую с детства минеральную воду «Ямаровка», полюбовались красавцами-кедрами, подышали чудным воздухом соснового леса, запахом тайги, багульника и брусничника.
Угостились в хлебосольном доме Бураковых забайкальскими пельменями, ухой из хариуса, жареным ленком и земляничным вареньем.
Пробежались по лесочку и лугам, где собирали грузди и землянику, косили для коровы Маньки сено…
Вспомнили, что сено гребли деревянными граблями, которые нам делал дедушка Карпов, Максим Епифанович, замечательный деревенский умелец и мудрый старик. Это его внук – Юрка, оставил мне на всю жизнь отметину на голове, почти у виска, сбивая в школьном дворе бумажные самолётики самодельными копьями-дротиками, а сбив с заборного столба меня, пятилетнего мальчугана, наблюдавшего за всем этим.
Постояли в нескольких местах на берегу Чикоя, и под его мирное и строгое течение припомнили многое из прошлого…
ЧИКОЙ
Чикой – река моего детства. Как я помню, его почему-то всегда называли в мужском роде – «он», а не она – река. «Убежали купаться на Чикой», «рыбачат вверх по Чикою», «большая вода на Чикое» – было слышно постоянно.
К Чикою относились всегда уважительно, как бы «на Вы». Ведь эта быстрая и горная река, берёт свое начало где-то в гольцах Сахандо и несёт свои воды в реку Селенгу, которая в свою очередь пополняет озеро Байкал.
Когда мы подросли и стали Чикой переплывать, то выбирали место с учётом его стремительного течения. Ведь прямо, как равнинную реку, её (его) не переплывёшь, тебя обязательно снесёт течением, как бы ты сильно с ним не боролся.
Вода в Чикое всегда, даже в июльскую жару, холодная. Смешно, конечно, но после купания мы, как правило, грелись у разведённого на берегу костра. А уж дров Чикой приносил нам сам – и много. На его берегах были всегда ветки, брёвна, деревья, целые коряги. А местами – у берегов или мест впадения в него других небольших ручьёв и речек, образовывались целые заторы (плотинки) из всего этого, принесённого течением.
Их почему-то называли «лом». Наверное, потому, что в них были сломанные деревья, ветки и т.п. И чтобы далеко не носить дрова, около них мы и собирались, разводили костры и купались. Здесь же пекли картошку, рыбачили. Иногда не уходили с реки целыми днями – «пропадали на Чикое».
Своё русло Чикой иногда менял, смещался то в одну, то в другую сторону от села, подмывал крутые берега и обваливал их, образовывал протоки в широких местах. В этих протоках мы и купались. А иногда плавали и через основное русло Чикоя.





![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)