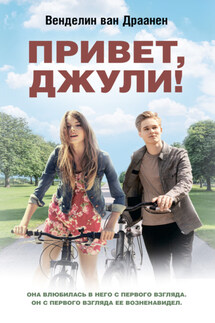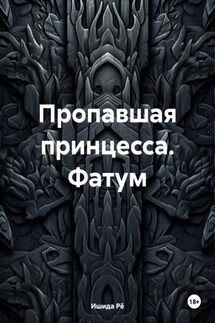Привет, Джули! - страница 10
В детстве папа разрешал мне садиться рядом и наблюдать, при условии, что я буду вести себя тихо. Мне тяжело давалось долгое молчание, но через пять-десять минут тишины папа сам начинал говорить. Благодаря этим посиделкам я многое о нем узнала. Он рассказывал о разном: о том, что делал в моем возрасте, и как доставлял сено на своей первой работе, и как жалеет, что не окончил колледж.
Когда я стала постарше, он по-прежнему много рассказывал о себе, но начал расспрашивать и меня. Что мы изучали в школе? Что я сейчас читаю? Что я думаю о том или о сем? Один раз он удивил меня: спросил, почему я без ума от Брайса. Я рассказала о его глазах, и волосах, и о том, как у него на щеках появляется румянец, но, кажется, объяснила как-то неправильно: когда я закончила, папа покачал головой и мягко, но убедительно посоветовал рассмотреть всю картину целиком. Не совсем поняла, что он имеет в виду, но мне захотелось поспорить. Да что он знает о Брайсе? Вообще ничего! Но здесь нельзя было ругаться. В доме можно, но не здесь. Мы долго молчали. Потом папа поцеловал меня в лоб и сказал:
– Правильная светотень – самое важное, Джулианна.
Правильная светотень? О чем это он? Мне было очень интересно, но я побоялась, что если спрошу, тем самым покажу, что я не такая уж и взрослая. Он произнес это как что-то очевидное. Как будто я не могу не понять.
После этого он редко говорил о чем-то конкретном. Чем старше я становилась, тем больше он философствовал. Интересно, правда ли он начал мыслить глубже или счел, что я уже могу это воспринимать, раз мой возраст из цифры превратился в число. Обычно его размышления влетали мне в одно ухо и вылетали через другое, но порой что-то цепляло, и я понимала в точности, что папа имел в виду. Он говорил: «Картина – не просто сумма частей», а затем объяснял, что корова сама по себе – просто корова, луг – просто трава и цветы, а солнце, пробивающееся сквозь ветки, – лишь луч света, но соедини их – и получится волшебство. Я поняла его слова, но вот прочувствовать не могла. До дня, когда забралась на платан.
Он рос на пустом, никому не нужном холме целую вечность. Летом развесистая крона спасала от солнца, а весной в листве вили гнезда птицы. С него можно было кататься как с горки – ствол закручивался спиралью. Мама говорила, что ствол деформировался очень давно, но платан выжил. Теперь, едва ли не сто лет спустя, он все еще здесь. Самое большое дерево из тех, что она когда-либо видела. Мама называет его «воплощением жизнестойкости».
Я часто играла рядом с деревом, иногда залезала на него, но так высоко забралась только в пятом классе. Я полезла доставать воздушного змея, застрявшего в ветках. Я заметила, как этот змей сначала парил в воздухе, а потом спикировал где-то в районе холма. Я тоже запускала таких и знала: иногда они безвозвратно пропадают, а иногда преспокойно лежат посреди дороги и ждут хозяина. Воздушные змеи бывают двух видов – везунчики и упрямцы. У меня были и те, и другие, и везунчиков определенно стоит догонять.
Тот змей показался мне везунчиком. Дело не в красоте – обыкновенный старомодный змей в форме ромба, в голубую и желтую полоску. Но он так дружелюбно покачивался, пока летел, что когда он упал, казалось, это от усталости, а не из вредности. Упрямцы падают из вредности. Они никогда не устают, потому что не так много времени проводят в воздухе. На высоте метров десять они словно ухмыляются, а затем пикируют забавы ради.