Привет из Чикаго. Перевод с американского на русский и обратно - страница 2
Иногда ДБ (наш начальник отдела, который приучил вех называть его инициалами) обращается ко мне как бы официально:
– Доброе утро, профессор, – и я чувствую себя шутливо возвращаемой в свою тарелку.
Нарочито учтиво «профессор» называет меня при встречах и профессор Питтсбургского университета Тони ДеАрдо, который помнит меня еще по приездам из Москвы, но мы оба понимаем, что это из другой оперы и выглядит как подарки цветов вне праздников.
Иначе, как «Нина», представляться уже и в голову не приходит.
Постепенно понимаешь, что и в этом есть важный элемент равенства. Если ты обращаешься к начальнику не иначе как Дик или Билл, то можно его уважать или не уважать, но тут нет места какому-то ни было пиетету, или того паче – раболепию.
И говорят, как пишут
Люди моего поколения помнят российско-американские телемосты, которые в конце 80-х вели Владимир Познер и Фил Донахью: впечатляющие импровизированные дискуссии представителей СССР и США в больших аудиториях. Не сомневаюсь, что тщательный отбор участников этих аудиторий производился с обеих сторон, но лично меня убивало косноязычие наших выступавших, бесконечные «вот», «ну», «ммм». «эээ», меканье, эканье, особенно досадное на фоне красноречивых и гладко говорящих американцев,
Частичное объяснение уменья гладко говорить американцев я увидела лично уже во время первого визита в США. В 1992 году мы с Юрой приехали в Бостон навещать Анечку. Она позвала посмотреть ее школу.
Похвасталась своей публикацией в школьном журнале. Что-то вроде тетрадки большого формата, размноженной на ксероксе (1992 год!). Мы прочли и были тронуты до слез неформальным рассказом о незаметном с виду однокласснике, играющем на фортепиано. Кончался этот небольшой рассказ весьма эмоционально: «Ребята, пройдут годы, и мы с гордостью будем говорить: А ведь мы учились с этим парнем в одной школе!»
Там были и другие написанные в свободном стиле заметки, но на нас этот журнал произвел особое впечатление, потому что Анюша училась в этой школе всего год, в специальном классе для учеников, для которых английский не родной (второй) язык. Так и называются эти классы «English-second language», в которых в течение одного-двух лет учатся дети, приехавшие из Мексики, России, Китая.
Аня позвала нас в класс, мы попросили у учительницы разрешения побывать на уроке. Тогда еще бабушки и дедушка, приехавшие в гости из России, были внове.
Мы обратили внимание на небрежность детей к верхней одежде: поскольку на уроки по разным предметам надо переходить в разные помещения, ученики тащили куртки с собой, бросали их тут же у входа на пол (общей раздевалки, по-видимому, не было). В большинстве школ существуют индивидуальные шкафчики, но тяжеленные рюкзаки с учебниками бедные дети все равно тащат из класса в класс.
Это был как раз урок английского. Учительница запустила им фильм про историю иммиграции. Там были и комментарии диктора и просто картины очередей на Статен Айлэнд, где происходили регистрация и медицинский осмотр въезжающих (в то военное и послевоенное время – преимущественно морским транспортом).
После окончания картины учительница стала задавать вопросы, общие и конкретные:
– О чем картина, которую вы сейчас смотрели?
– Почему люди разных стран стремились приехать в США?
– Почему США принимали и принимают людей из разных стран?
– Каковы требования к приезжающим?

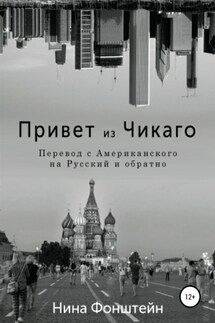

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



