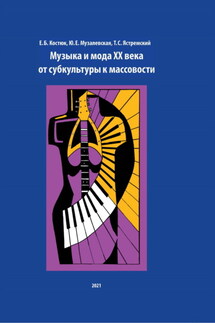Признание Эдисона Денисова. По материалам бесед - страница 35
Но вообще говорить о влияниях сложно. Я не думаю, что их нет и у любого очень зрелого композитора. Эти связи, они могут и исчезать с годами, но могут всплывать и снова. Возьмите мою Симфонию для большого оркестра, написанную в 87 году. Ведь как по-разному она звучит у Рождественского и Баренбойма! Совершенно как разные сочинения. Баренбойм, который сыграл ее с поразительной утонченностью, музыкальностью… пластичностью; он где-то приблизил ее и к Брукнеру, и к Сибелиусу. А Рождественский сыграл более эмоционально – ближе по трактовке к симфониям Чайковского. И хотя я не люблю Брукнера, но я все же ощутил, что отдаленные аллюзии с симфонизмом Брукнера, с симфонизмом Чайковского в некотором типе работы с материалом здесь вполне возможны и оправданы в таких исполнениях, как, впрочем, и с Шостаковичем. Особенно во второй части. И то же я могу сказать и о «Музыке для альта, клавесина и струнных» или Сонате для скрипки и органа, когда вдруг явно возвращается уже, казалось бы, совсем исчезнувшее влияние Шостаковича.
Но все же эти возвращения, как и новые влияния, с опытом становятся все реже и реже. Однако полностью возможность их появления исключить, конечно, нельзя.
– А каково ваше отношение к Скрябину? Мне кажется, что в ваших сочинениях он тоже оставил определенный след.
– Скрябин?
Должен сказать, что ни о каких влияниях, когда пишешь музыку, и не думаешь. Но вот в последнюю субботу я со своими студентами анализировал «Живопись» для оркестра. Мы ее прослушали в записи и я был совершенно поражен, насколько это Скрябин, скрябиновское сочинение. Никогда в жизни я так его раньше не воспринимал. Казалось бы, семидесятый год, пора бы уже стать самостоятельным, – и вдруг такое вот воздействие. Причем, если вы возьмете предыдущие сочинения за пятнадцать лет, там нет никакого влияния Скрябина, нигде, абсолютно. И вдруг в «Живописи» прорвалось. Почему? Непонятно. Думаю, просто где-то сидело внутри и неожиданно прорвалось.
– Особенно это, по-моему, слышно в кульминации, когда тромбоны играют в унисон двенадцатитоновую тему.
– Да, это, конечно, так: совершенно «Божественная поэма».
– Удивительно.
– Самому, Дима, странно, почему так вышло.
– Возможно, сказались какие-то предшествующие слушания его произведений, их анализы?
– Никогда не анализировал Скрябина, ни одного сочинения. Даже фортепианных прелюдий. Слушал, конечно, много его музыки, но не анализировал.
– А Шенберга?
– Я считаю, что он не оказал на меня никакого влияния.
– А Берг?
– В чем-то – да. Но Веберн, пожалуй, более их всех. Если вы возьмете, например, мое самое первое сочинение для хора из тринадцати солистов «Осень» на стихи Велимира Хлебникова, то там вот эта чистота голосоведения, ощущение пространства, воздух и то, что каждый элемент, каждый буквально звук хорошо слышен, – это, по-моему, безусловно, влияние Веберна. Я имею в виду, как вы понимаете, не серийную технику этого композитора, а, прежде всего, того Веберна, который написал «Das Augenlicht». Мне и в поздних своих сочинениях, скажем, в том же Реквиеме, в его четвертой части – кстати сказать, целиком двенадцатитоновой – тоже кажутся возможными разные аллюзии с его хоровым письмом.
Каждый раз, когда слушаю его, все время поражаюсь прозрачности звучания его сочинений, их удивительной пространственности, обволакивающей нас, разрушающей нашу приземленность. Потом не забывайте, что Веберн очень любил добаховскую музыку, чистоту письма и выверенность каждой ноты, которые там всегда вы найдете.