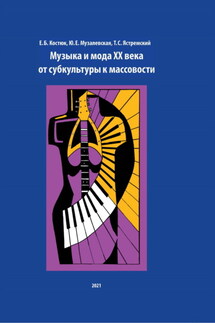Признание Эдисона Денисова. По материалам бесед - страница 38
Однако есть у меня и сочинение в полистилистической, чуждой мне, манере, но оно написано так специально, к определенному случаю. И это во многом объясняет, почему оно написано так, а не иначе. Я имею в виду свои «Вариации на тему Генделя» для фортепиано. Заказ на них я получил от Феликса Готлиба… Он попросил меня написать сочинение для его концертов в Москве и Ленинграде. В первом отделении должны были играться три сюиты Генделя на клавесине. Вначале – Сюита B-dur, потом шли, по-моему, F-dur и g-moll. Последняя заканчивалась Пассакалией… И вот он и попросил меня написать для начала второго отделения Вариации на тему генделевской Пассакалии g-moll, которой заканчивалось первое отделение концерта. В результате получался интересный и вполне оправданный переход из первого отделения в конец второго… Сочинение, по-моему, идеально легло в программу.
– Говоря откровенно, я не понимаю вашего отношения к такой форме музыкального языка в качестве ведущей концепции стиля. Если вы сами используете материал Генделя, Шуберта, Глинки и других композиторов в контакте со своим материалом, то какая разница, как он при этом интерпретируется: вводится ли он в виде «аллюзий», цитат, псевдоцитат, работает ли в разнообразных комбинациях друг с другом без привлечения лично вашего материала, или вы ему даете возможность выступить в новом «содержательном одеянии» вкупе со своей музыкальной тканью, давая тем самым ему прочтение, о котором его автор и не мыслил вовсе. Ведь доказать свое право на любую из таких форм обращения к другим композиторам можно только одним путем – созданием сочинения, имеющего для слушателя неоспоримую художественную ценность. Тем более что проверка правильности тех или иных техник письма в искусстве, манер ли, стилей ли, их жизнеспособность могут быть реально оценены только спустя многие десятилетия и даже столетия.
– Я уважаю то, что делают другие люди и считаю, что каждый должен заниматься тем, что ему нравится, чем ему хочется заниматься, что его увлекает. И у меня, естественно, как и у других, может быть свое приятие и неприятие. Но есть вещи, которые я не могу, не хочу принять всем своим существом.
– А какие еще?
– Ну, например, мне нравится «Лидер» Рихарда Штрауса, но я совершенно не могу слушать его «Кавалер роз». Мне это тяжело. Или те же вальсы Рихарда Штрауса. Для меня они такие тупые, как самые худшие сочинения Хиндемита. И венский вальс для меня – это только Иоганн Штраус, это легкая, изящная, летящая музыка, но никак не … какое-то заклиненное мышление…
– Когда вы впервые услышали на концерте свое сочинение?
– Это было в консерватории на студенческом вечере, и это были мои «Ноктюрны». Пела их замечательная певица Ирма Голодяевская. Прекрасный голос, прекрасный музыкант. А аккомпанировал ей я сам.
Затем было Фортепианное трио с Гришей Фейгиным и Валей Фейгиным. Я тогда много играл с ними вместе.
Еще хорошо прошел цикл «Страдание юности» с Женей Кибкало.
– А как воспринимали педагоги ваши сочинения на концертах?
– По-разному, но чаще всего с какой-то настороженностью, с недоверием, что ли. Некоторые вообще считали меня лишенным музыкальности. Я слышал иногда и реплики о том, что моя музыка «сухая». А что такое «сухая музыка» или «мокрая», я до сих пор не понимаю.
– Мне кажется, что, если бы никто и ничего не знал о вашем математическом образовании, то многие из подобных оценок просто бы не появились. В большинстве своем подобные суждения, и особенно о музыке новой в своем содержании, в своих выразительных средствах делаются людьми, как правило, имеющими очень поверхностное представление о ней. По большей части это «говоруны», скорее наслаждающиеся своим искусством разговора о музыке, чем непосредственным общением с ней.