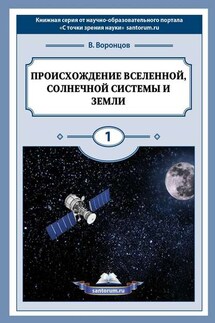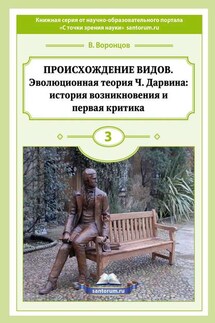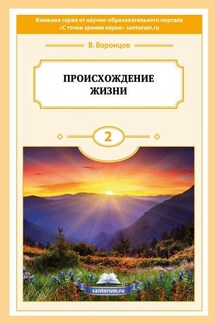Происхождение видов. Эволюционная теория Ч. Дарвина: борьба за существование и естественный отбор - страница 6
Как известно, все цветковые растения по количеству семядолей в семени делятся на 2 группы: однодольные и двудольные. Каково эволюционное значение этого признака? «В каких условиях и когда только одна семядоля могла быть полезней, чем две?» – спрашивает Данилевский (Данилевский, 2015). Нет никакой разницы, сколько семядолей содержится в семени, – а ведь этот признак лёг в основу разделения растений на классы!
То же самое можно сказать и о форме листьев растений и их положении. В каких условиях овальная листовая пластинка полезнее, чем яйцевидная, или какую выгоду даст очерёдное расположение листьев по сравнению с супротивным, зубчатый край по сравнению с пильчатым и т.д.? К безразличным признакам относится расположение семян в плодах, их форма, размер, цвет и т. д.
Этот список можно приводить до бесконечности, и касается он не только растений, но и животных: Бронн приводил в пример безразличных признаков длину хвостов у разных видов зайцев и мышей.
Данилевский в своём «Критическом исследовании» попытался классифицировать безразличные признаки и разбил их на 4 категории (Данилевский, 2015). Причём в своём большинстве именно безразличными признаками отличаются виды, и они наиболее консервативны.
Дарвин принял это возражение, назвав его «весьма серьёзным». Ответил же тем, что в одном случае мы не знаем пользы данных признаков (в силу нашего невежества), а в другом, что причина их закрепления нам неизвестна, тем самым допустив появление признаков и без всякого отбора. Но если признаки могут появляться без отбора, то на каком основании Дарвин приписывает ему ведущую роль, возражал Данилевский. Может быть, движущим фактором эволюции является одна из этих «неизвестных» нам причин, а не естественный отбор? Кроме того, если мы не в состоянии в большинстве случаев решить, полезно ли какое-нибудь изменение организму или нет, то почему всю теорию происхождения органических существ строим на предположении о специальной пользе именно этих изменений? Как можно основывать общую теорию на частных случаях?!
2.1.2 Окраска цветков и плодов. Практически все попытки Дарвина объяснить появление того или иного признака действием естественного отбора в глазах критиков выглядели весьма неубедительными и даже ложными. Например, яркая окраска цветков. Дарвин полагал, что красивые и ярко окрашенные цветки возникли в результате борьбы растения за привлечение насекомых, обеспечивающих их опыление. «Я пришёл к этому заключению на основании неизменного правила, что цветок никогда не обладает яркоокрашенным венчиком, если оплодотворяется ветром… Отсюда мы вправе заключить, что если бы на поверхности земли не существовало насекомых, наши растения не были бы усыпаны прекрасными цветками, производили бы только такие жалкие цветки, какие мы видим на сосне, дубе, лещине, ясене или на наших злаках… которые опыляются при содействии ветра» (Дарвин, 1991).
Но, к несчастью для Дарвина, это «неизменное правило» оказалось не таким уж и неизменным. Как известно, у хурмы такие же невзрачные цветы, как у большинства ветроопыляемых растений, однако дерево опыляется насекомыми. А вот такие привлекательные цветки, как у ромашника, рябчика, плюмерии, дынной груши, некоторых видов фуксий, оливковых деревьев, опыляются ветром. Несмотря на наличие у одноцветки крупноцветковой, седмичника европейского, цирцеи альпийской, майника двулистного красивых цветков, к тому же источающих нежный аромат, насекомые не посещают этих растений, в то же время такие неказистые цветки, как у мари, свёклы, ивы, фисташки, можжевельника, многих пальм, омелы, шпината, хмеля и др., наоборот, для них очень привлекательны.