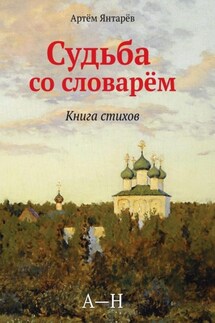Противоположности - страница 3
– Ты знаешь, что я не даю авансов. Но… – Генри снова откинулся на спинку кресла. – Есть одно дельце для тебя. Ты читаешь «Дейли»?.. Короче говоря, их надо взять за мошну. Надо их переиграть, переписать, называй, как хочешь. Они стали выдавать рассказы новой волны – сухие и черствые, как трехдневный хлеб. Никаких излишеств, только самое важное. Суть в том, что люди едут на работу и у них нет времени вдумываться и вчитываться, так что они, как оказалось, предпочитаю наиболее простые тексты, которые можно понять сходу. И, в то же время, везде присутствует в известном смысле герой, стоящий на обрыве; понимаешь, о чем я толкую? Крайне пошлый клиффхэнгер, который заставляет людей покупать новые номера в надежде узнать развязку. Грубый прием, но черт подери, он работает. И нам нужно что-нибудь в этом духе, что-нибудь грязное и простое, как разговор за стойкой в харчевне. Ты по этой части, кажется, спец, – Генри добродушно рассмеялся. – Не принимай близкой к сердцу, Том.
– Да, конечно, я могу, – Том облизнул губы, чувствуя себя вовлечённым во что-то серьезное. – Все, что захотите. Я ваша словесная проститутка, если позволите.
– Отлично, Том, – Генри открыл ящик стола, достал связку хрустящих банкнот и, выдернув из неё одну, протянул ему. – Из моих средств, считай. Знак поощрения. Но взамен я хочу видеть твою историю у себя на столе не позже пятницы.
– Не напомните, какой сегодня день? – неловко улыбнулся Том, разглядывая десять долларов. Боже, храни Америку. И типографии. И благодушного, щедрого ангела Генри. – Я что-то потерял счёт времени.
– Вторник. Сегодня вторник, Том.
Том вышел из типографии, достал сигарету и закурил, отдаваясь на волю глупого, но такого искреннего ощущения собственной полноценности, что это ощущение просто не поддавалось обжалованию; при средствах, да и еще и посвящённый в важную работу, в которой ему доверили не просто второсортную колонку рассказов, а настоящее произведение искусства, пускай и массового характера. Я напишу так, что ребята из «Дейли» сами себе утрут нос. Подвешу их на собственных галстуках, ох, они удавятся, натурально удавятся, узнав, что какой-то безызвестный гений их переплюнул. Знали бы еще, кто! Алкоголик без постоянной работы, побирающийся грошами, сущими грошами, но творящий – не за деньги, конечно. За идею, за искусство, за то, чтобы дышать. О, им этого не понять. Том ловко выстрелил пальцами окурок, и он с тихим хлопком ударился об кирпичную стену издательства, разлетевшись на искры; так ударяются об гранит действительности надежды – и, ярко вспыхнув один раз, дотлевают на заплёванной пыльной дороге. Да, может быть я алкоголик, может я жалок, может я не то, что должен представлять из себя человек – а что, кстати, должен? – но я живу, живу, и у меня бьется мое страдальческое сердце, изливаясь кровью, когда я сажусь писать. Мое тело – это просто дряхлое, больное мясо, но моя душа – душа падшего ангела, корчащегося в муках, пока стервятники обстоятельств выжирают ее внутренности с диким, животным голодом, о-ох! Знаете, знаете? Мое сердце бьется, а это что-нибудь, да значит. Черт возьми, зовите меня как угодно, поносите, что есть мочи, считайте, что я грязь на ваших подошвах, и я буду просто смеяться вам в лицо, потому что мне ближе хобо с их целительными, простыми истины, с их обнаженными стеблями жизни, которыми они упиваются, выжимая все соки, мне ближе правда, чем любая роскошь – и может быть я не знаю, что такое нормальная жизнь, но я знаю, что такое жизнь настоящая, и я ее люблю. Я ее люблю. Я по ней страдаю, как по любовнице, к которой приобрёл чувство привязанности. А вы давно радовались простым мелочам? Куда вам замечать счастье обыденности, если она кажется вам удушливой. А я рад всему и моя любовь разделена между всем, как блаженство Господа. Аллилуйя, аллилуйя.