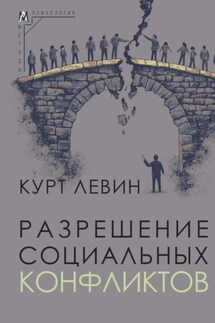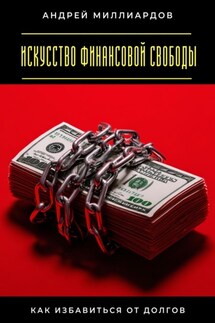Проживаемое время. Феноменологические и психопатологические исследования - страница 5
Книга, которую мы с любовью представляем читателю, является переизданием первоначального текста, это не второе издание. Чтобы появилось второе издание, необходимо пересмотреть весь текст, внести коррективы в спорные моменты, с учетом новых сведений, собранных уже после первого издания. Мне кажется, пока я еще могу обойтись без внесения каких-либо корректив, так как по большей части это невозможно. И дело здесь вовсе не в том, что мне хотелось бы оградить себя от дополнительной работы; я руководствуюсь совершенно иными мотивами. В личностном плане этот источник прежде всего представляет собой единый блок, если можно так сказать; кроме того, безусловно, со временем, при работе над последующими книгами, мне приходилось возвращаться к тем или иным моментам, я старался углубиться в некоторые нюансы, сделать их более понятными, однако эта «ретушь» не изменила роль целостного первоначального «блока», который являлся фундаментом для моих последующих работ; многочисленные диалоги, множество книг, все это, несомненно, оказало влияние на мое мышление, но ничто не могло изменить мое сознание, руководствуясь которым я написал первоначальный текст этой книги, что отражено и в цитате из «Логики Пор-Рояля»[1], использованной мной в качестве эпиграфа к предисловию. В общем-то, я могу сказать, что данный источник является обобщением современного мышления, может, где-то более, а где-то менее глубоко рассмотренного, и все же, мне кажется, это достаточно легко заметить. Вопрос, с которым часто обращаются ко мне те, кто не смог достать эту, уже распроданную книгу («Когда же будет новая публикация „Проживаемого времени“?»), думаю, является свидетельством того, что от меня ждали именно ее переиздания.
Самая характерная черта данного произведения отражена в его подзаголовке: «Феноменологические и психопатологические исследования». Исследования, тесно связанные между собой. Здесь, наверно, нужно кое-что объяснить. Подобная тенденция наметилась еще при издании «Шизофрении»: влияние на меня Анри Бергсона легко прослеживается в этой книге; понятие «эмоционального контакта» заменяется там более обширным понятием «жизненного контакта»; благодаря работам Бергсона, нам с моим рано покинувшим нас товарищем Рог де Фюрсаком удалось описать патологический рационализм, что стало своеобразным пропуском к пониманию способа существования больных шизофренией, а также их особого мира, специфика которого во многом превосходит простое перечисление общеизвестных симптомов. Феноменология Гуссерля со временем присоединилась к феноменологии Бергсона, так как обе они были основаны на рассмотрении ближайших сведений и незначительно отличались друг от друга.
Так нам удалось сделать шаг вперед, это позволило говорить о философской направленности современной психопатологии. Однако данный термин может привести к недопониманию явления. Некоторые специалисты, преданные тому, что принято называть «фактами», и гордящиеся тем, что слово «философский», на их взгляд, отчасти обладает уничижительным значением, откажутся от этого мнения и даже станут его критиковать. Они не учитывают того, что сведения, выставленные напоказ в психопатологии так называемого «философского течения», вовсе не абстрактны, они тоже являются «фактами», просто иного порядка; если кому-то так больше нравится: это факты, которые в любом случае дают нам возможность значительно приблизиться к пониманию миров, порой странных и недоступных для восприятия с первой попытки, миров, в которых живут больные, в первую очередь, страдающие психическими расстройствами. На основании этого, именно психопатология предоставила нам честь подвести меня самого, а также и моих коллег психиатров-философов, к живой реальности, раскрывающейся во время контактов с больными, освободив нас от засилья философии в чистом виде. При таком рассмотрении мое предисловие обретает принципиально иное значение. Дело в том, что ни при каких обстоятельствах не стоит пытаться просто и конкретно противопоставлять сведения и методы, выделенные тем или иным философом в качестве значимых, соотнося их с областью психопатологии. Это непременно приведет к «гиперфилософичности» психопатологии, к опасности, которой я всячески пытаюсь избежать. О том же я постоянно напоминаю и моим младшим коллегам, только начинающим двигаться по этому непростому пути, объясняя, что подобные действия могут привести к полнейшей деформации психопатологии как науки. Истина и методы, которых следует придерживаться, существуют отдельно. Мне кажется, в наше время все сильнее и сильнее заявляет о себе новое мощное направление научной мысли, позволяющее осознать, что все отдельно существующие науки, объектом изучения которых является человек, имеют тенденцию к тому, чтобы превратиться в гуманитарные науки, и это не пустые слова. Я говорю об «антропологическом направлении». Центральным объектом наших исследований отныне является не просто индивид с его человеческим статусом, а человек вместе с его судьбой и призванием, которого мы изучаем в рамках философии, а также в рамках психологии и психопатологии, учитывая тот факт, что все эти дисциплины пытаются стать гуманитарными. Философы, чей «научный язык» достаточно часто непонятен нам, словно он существует как бы отдельно от нас, изучают человека со своих позиций, имея, кстати, больше возможностей, чем мы с вами, для того, чтобы указать направление движения вперед. В таком случае, почему мы не можем пользоваться источником, который принято применять в философии? Как раз наоборот: мне это кажется совершенно естественным. Повторю еще раз: речь не идет о каком-то точном и абсолютном копировании. Каждая область знаний обладает присущими ей особыми характеристиками, подчеркивающими ее значимость. Сведения и методы, которые, так сказать, были позаимствованы из философии, обязательно будут проявлять себя в образе, свойственном и типичном для нашей области знаний, что потребует от них многочисленных изменений, в силу чего они становятся для нас очень полезными и инструктивными. Именно эту направленность мне и хотелось подчеркнуть в подзаголовке «Проживаемого времени», именно этой направленности я остался верен в моей самой последней книге «Трактат о психопатологии», которая была опубликована в издательстве «Университетская пресса Франции» («Presses universitaires de France») в декабре 1966 года.