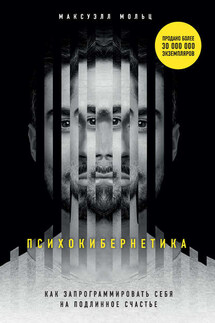Психокибернетика - страница 6
Одна из причин, по которой человеку так трудно изменить свои привычки, личность или образ жизни: вплоть до последнего времени почти все попытки измениться направлялись на периферию Я, так сказать, а не в его центр.
Многочисленные пациенты говорили мне: «Если вы толкуете о позитивном мышлении, то я уже пробовал, и мне это просто не подходит». Однако стоит задать пару дополнительных вопросов – и выясняется, что они применяли позитивное мышление – или пытались его применять – либо к конкретным внешним обстоятельствам, либо к конкретной привычке или дефекту характера («Я получу эту работу», «Я в будущем буду более спокойной и расслабленной», «Это деловое предприятие сложится для меня именно так, как надо», и т. д.). Но они никогда и не думали изменить свои мысли о том Я, которое должно было всего этого достичь.
Иисус предупреждал нас, что глупо ставить заплату из новой ткани на ветхие одежды или вливать молодое вино в старые мехи. Позитивное мышление неэффективно использовать как заплату или костыль для существующего представления о себе. Более того, невозможно действительно позитивно думать о конкретной ситуации, если у вас негативная Я-концепция. И многочисленные эксперименты показывают, что, когда меняется образ Я, цели, последовательно согласующиеся с новым самоощущением, достигаются легко и без напряжения.
Один из первых и наиболее убедительных экспериментов на эту тему был проведен покойным Прескоттом Леки[5], основоположником психологии образа Я.
Леки представлял личность как «систему идей», каждая из которых должна казаться последовательно согласующейся с остальными. Идеи, идущие вразрез с системой, отвергаются, в них не верят, а потому и не действуют согласно им. Идеи, которые кажутся согласующимися с системой, принимаются. В самом центре этой системы идей находится основа, на которой строится все остальное, – «эго-идеал» человека, его образ Я или представление о себе.
Леки был школьным учителем и мог проверить теорию на тысячах учеников.
Леки предположил: трудности с определенным предметом школьной программы связаны с тем, что знание этого предмета не согласовалось бы (с точки зрения ученика) с его представлением о своей личности. Однако, считал Леки, если бы удалось трансформировать лежащее в корне проблемы представление ученика о себе, подход к проблемному предмету изменился бы соответственно.
Если ученика убедить перестроить самоопределение, то его способность к обучению тоже должна была измениться.
Леки был прав. Один ученик, делавший орфографические ошибки в 55 словах из сотни и заваливший такое количество контрольных, что был оставлен на второй год, в следующем году в среднем правильно писал 91 слово из 100 и стал одним из самых грамотных в школе. Парень, исключенный из колледжа за плохие оценки, поступил в Колумбийский университет и был там круглым отличником. Девушка, четырежды не сдавшая экзамен по латыни, после трех бесед со школьным консультантом получила на 84 балла из 100. Студент, которому экзаменационная комиссия заявила, что у него нет никаких способностей к английскому языку, на следующий год удостоился почетного звания за полученную литературную премию.
Проблема этих учащихся была не в тупости или нехватке основных способностей. Она крылась в неадекватном образе Я («у меня не математические мозги», «я просто от природы склонен писать с ошибками»).