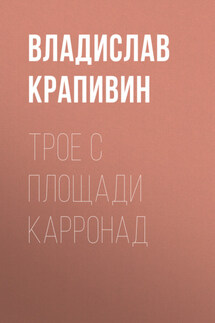Психологическое литературоведение - страница 21
Если частные моменты стиля, жанра, содержания типологизируются для решения задач лексики (стилистики, лексикографии), литературоведения, семантики, то индивидуальные особенности проявления в тексте всей личности как единого целого изучаются в психологии в нескольких аспектах, с использованием иных понятий. Одним из них оказывается установка.
«Способность художественного творчества имеет в основе не какой-либо психический момент, – писал Д. Н. Узнадзе, – а какую-то целостную личностную особенность. <…> Действительность <…> воздействует на личность и вызывает в ней определенную личностную реакцию – определенную установку, которая ложится в основу последующей деятельности человека» (Узнадзе, 1940, с. 484).
В свою очередь, М. М. Бахтин писал, что «в жизни <наши реакции. – В.Б.> носят разрозненный характер, <…> а в художественном <…> произведении в основе реакции автора на отдельные проявления героя лежит единая реакция на целое героя, и все отдельные его проявления имеют значение для характеристики этого целого как моменты его» (Бахтин, 1979, с. 7–8).
Важным понятием для анализа текста является стиль — устойчивая общность образной системы, средств выразительности, характеризующая своеобразие творчества писателя. Однако автор не столько выбирает стиль, сколько стремится проявить себя и свое видение мира в стиле, который он создает. Нам представляется, что стилевые средства, отбираемые автором из громадного разнообразия изобразительных средств, также являются проявлением более общих психологических (когнитивных и эмоциональных) предпочтений писателя как личности.
Еще одним понятием, которым оперируют при изучении художественного текста в интересующем нас плане, является модальность. Так, И. Р. Гальперин, вводя понятие «текстовая модальность», пишет о том, что она «выявляется тогда, когда читатель в состоянии составить себе представление о каком-то тематическом поле, то есть о группе эпитетов, сравнений, описательных оборотов, косвенных характеристик, объединенных одной доминантой <выделено мной. – В.Б.> и разбросанных по всему тексту или по его законченной части» (Гальперин, 1981, с. 118). В качестве примера такого тематического поля И. Р. Гальперин приводит эпитеты из поэмы «Ворон» Э. По (dreary – мрачный, bleak – хмурый, sad – печальный, uncertain – неясный, fantastic – фантастический, ominous – зловещий, unmerciful – безжалостный, melancholy – унылый, evil – порочный, desolate – безлюдный), создающие атмосферу, которой поэт окружает факты и эпизоды содержательно-фактуальной информации (стук в дверь, появление ворона, обращение к ночному гостю, воспоминания, мечты и т. п.).
«Задача <…> текстолога, – пишет в этой связи исследователь, – показать, систематизировать и обобщить эти „отголоски“, а это значит, что он должен найти их в развернутом повествовании, проанализировать в лингвистическом аспекте и обобщить. Субъективно-оценочная модальность, – полагает он, – не проявляется в одноразовом употреблении какого-либо средства. Эпитеты, сравнения, определения, детали группируются, образуя магнитное поле, к которому приковано внимание читателя, поля, в котором энергией текста эти детали обретают синонимичные значения» (там же, с. 119).
В этом утверждении важно обратить внимание на ряд моментов. Во-первых, используемые автором эпитеты действительно обретают синонимическое значение в контексте всего его произведения. Если в отношении нейтрального по стилистике текста при его лингвистическом анализе можно говорить о функционально-речевой синонимии (