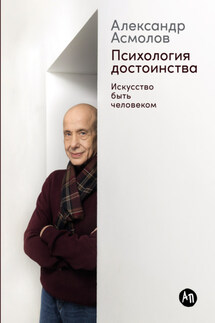Психология достоинства: Искусство быть человеком - страница 4
Я не заработал ни рубля. И эта картина мира тоже со мной до сих пор.
Часто используемые схемы для понимания человека: стимул/реакция, нейрон/сознание, ген/поведение – резко упрощают человеческую природу. Эти схемы разбиваются о многочисленные факты, доказывающие, что человек по большому счету – незапрограммированное существо.
Код непредсказуемости – наш ключевой код.
И этот код – это дар родом из детства. Мы знаем, что его можно заглушить, а можно привыкнуть рассчитывать на него.
Чем прекрасны те «литературные безумцы», которым выносят жесткий диагноз «горе от ума»? Чем прекрасен Дон Кихот? Чем прекрасен Чаадаев? А герои Жюль Верна? Человечностью! Тем, что они обладают самостоянием, что они творят самих себя. Тем, что готовы искать решения в самых трудных и непредсказуемых ситуациях.
Где мы учимся такому поведению? В сказках, где герои без устали сражаются с ветряными мельницами. Где перед героями ставят задачу: «Пойди туда, не знаю куда». А герой идет и справляется. В сказках дается идея саморазвития, самодвижения, даже похвала хаосу, где ступа с Бабою Ягой идет (в мире порядка), бредет (в мире хаоса) сама собой.
Когда мы обращаемся к своему первому представлению о мире, то картина неизбежно оказывается не реальностью, а своего рода реконструкцией реальности. К нашей памяти о двух–, трех–, пятилетнем возрасте всегда относится замечательная формула «врет как очевидец».
Мы с вами вообще выступаем как «непрерывные» очевидцы движения собственного разума и, отдавшись этому потоку, получаем то, что психологи называют «развивающийся гештальт».
Гештальт (как определяют его во многих психологических словарях) – это целостность, не сводимая к сумме ее частей. Другое, более близкое мне определение гештальта: это целое, в котором отдельные его элементы приобретают ранее неизведанные свойства. Так точнее.
Человек приходит в настоящее не просто из прошлого, а каждый день строит свое настоящее как реализацию образа будущего. Сотворение мира – это непрерывный процесс. И процесс непрерывных решений.
Когда я просматриваю, как идет движение образов моей жизни (а я это делаю в самые разные мгновения, поскольку все мы родом из детства, и детство относится к каждому из нас), – я испытываю прежде всего ощущение доверия к тому миру, в котором я жил, когда мне было три, четыре, пять лет.
Вокруг меня были люди, с которыми я находился в состоянии психологического симбиоза. И в этом симбиозе главным было постоянное рассказывание сказок. Я не мог жить без сказок (и продолжаю жить в сказках теперь). Эти сказки – всякие небылицы, небывальщины и так далее, которые для меня то и дело откликаются в том, что сегодня происходит в мире.
Главное ощущение мира моего детства – это то, что этот мир полностью создан для меня. Я родился для того, чтобы этот мир меня встретил, а я должен его в себя втянуть, а потом сделать так, чтобы собой размножиться всюду и везде. Я выступал как своего рода «мироуловитель» для того, чтобы потом прийти в этот мир и его удивить. И это ощущение остается со мной до сих пор.
С тех пор я верю, что от моих действий может меняться реальность. Даже если это неправда (а вера отличается от знания тем, что она несет в себе элемент магии), я все равно продолжу в это верить.
Детское магическое мышление отличается от всех наших концепций и теорий тем, что его обладатель воспринимает мир личностно, как нечто одушевленное, как и он сам. Развитие детской личности – это постоянная игра между идентификацией и отчуждением, между центрацией и децентрацией, между конструкцией и деконструкцией смыслов. В детстве мы выступаем