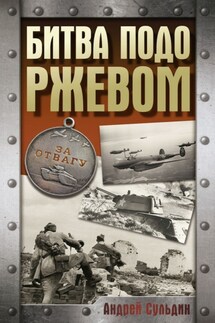Путь осмысленной и счастливой жизни - страница 26
2. Инстинкт продолжения рода (половой) толкает мужчин и женщин на взаимоотношения, что в естественной среде приводит к появлению потомства. В природе только выжившие, лучше приспособленные к окружающему миру, а также прошедшие «половой отбор» получают возможность передать генетический материал последующим поколениям. Этот закон действует и в наше время.
3. Социальный инстинкт взаимодействия с себе подобными появился в результате эволюции организмов. Он даёт конкурентные преимущества в выживании. Так гоминиды, сотрудничая, не только охотились на зверей, защищались от хищников, но и изменяли окружающую среду под свои нужды.
В результате наблюдений за приматами было выявлено, что «социальные черты» свойственны не только людям. В подтверждение приведу выдержки из книги Франса де Вааля «Истоки морали. В поисках человеческого у приматов». Я это сделаю и для того, чтобы подчеркнуть необходимость изживания в себе эгоизма, гордыни и пафоса, а также пристыдить некоторых представителей человеческого общества, которым бы следовало брать пример с наших «братьев» в их лучших качествах: ведь обезьянам присущи нравственные начала, как например, дружелюбие. «Известны случаи, когда самки шимпанзе буквально тащили упирающихся самцов навстречу друг другу, чтобы примирить их после ожесточённой схватки, и одновременно вырывали оружие из их лап. Более того, высокоранговые самцы регулярно выступают в роли беспристрастных арбитров, разрешая споры в сообществе. Для меня эти намеки на заботу об общественных интересах служат знаком того, что строительные кирпичики нравственности старше человечества…»
Лидерство, харизма, смекалка и управленческие навыки – отнюдь не уникальные человеческие качества. «В молодости Финеас был альфа-самцом, но ближе к 40 годам стал относиться к лидерству спокойнее. Он обожал играть с подростками, заниматься грумингом с самками и следить за порядком. Едва заслышав шум ссоры, Финеас спешил на место событий и принимал угрожающую позу – да так, что вся шерсть у него вставала дыбом, – чтобы прекратить скандал. Он готов был стоять между спорщиками до тех пор, пока не прекращались вопли и визг. Такая “контролирующая функция” хорошо известна и у диких шимпанзе. Примечательно, что самцы в этой роли никогда не принимают чьей бы то ни было стороны: они защищают более слабого участника ссоры, даже если вторая сторона – их лучший приятель. Я часто удивлялся подобной беспристрастности, ведь она идёт вразрез со многими другими обычаями шимпанзе. Однако роль контролёра заставляет самца отказаться от своих социальных пристрастий и тем самым реально работает на благо сообщества.
Нам с Джессикой Флэк удалось показать, как полезно для группы такое поведение. Для этого мы временно удалили из вольера тех самцов, которые обычно исполняли в ссорах роль арбитров. В результате обезьянье сообщество буквально расползлось по швам. Заметно вырос уровень агрессии, а примирения, напротив, стали реже. Но стоило вернуть самцов в группу, и порядок сразу восстановился. Однако остаётся вопрос: почему они это делают? Какую пользу для себя извлекают? Основная идея здесь в том, что высокоранговые самцы, вступаясь за слабых и неудачливых, зарабатывают себе этим уважение и популярность в сообществе. Но если для молодых самцов такая стратегия годится, то для Финеаса – вряд ли. К концу жизни этот спокойный старый самец очевидно ослабел и, судя по всему, отказался от всяких амбиций. Тем не менее он усердно отслеживал случаи раздора и вражды в группе. Его стремление к всеобщему согласию, безусловно, шло на пользу всем, кроме, может быть, его самого. Неужели и шимпанзе великодушнее, чем полагалось бы по геноцентрической теории?» [Франс де Вааль, 2018].