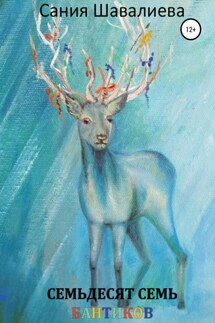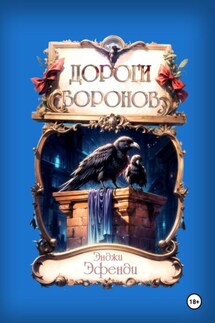Читать онлайн Аякко Стамм - Путешествие в Закудыкино
Пролог
Эта психбольница была, в общем-то, самым обычным лечебным учреждением, коих много, ой много и поныне существует по всей территории нашей душевно изболевшейся страны. Прекрасные, заповедные уголки природы, некогда облюбованные праздными эксплуататорами и паразитирующими церковниками для своих соответственно поместий и обителей, заботливо передавались новой властью убогим согражданам вместе с как-то быстро обветшавшими дворцами и храмами. Тихие, живописные, пребывание в которых лечит и приводит в умиротворяющий восторг душу, сказочные по своей красоте местечки Московии стали вдруг пристанищем для убогих и страждущих. А они в свою очередь нашли здесь среди каменных призраков былого величия и духовной твердыни покой и отдохновение. Многие насовсем.
Лечебница эта вполне себе спокойно существовала, функционировала, принимала в свои стены больных, иногда выпускала из них вроде бы здоровых, да и вообще ничем не отличалась от многих других заведений подобного профиля. Так и продолжалось бы, наверное, долго-долго, может быть даже бесконечно, если бы неожиданно в этом лечебном учреждении не стали бесследно исчезать люди.
И не то чтобы они пропадали как-то вдруг, ни с того ни с сего, каким-то фантастическим, или попросту мистическим образом – как золотые с бриллиантовой проседью часики наивной блондинки с первого ряда партера в рукавах поиздержавшегося в дороге, заезжего фокусника. Люди стали исчезать почти незаметно, как-то буднично-прозаично, без спецэффектов и ненужной шумихи…. Но бесследно. Они просто были – спали, ели, пили, с кем-то ссорились, с кем-то дружили, кого-то очень даже любили, в общем-целом, попросту жили. А потом вдруг раз и пропали. Не все сразу конечно, постепенно, по одному. И даже не сразу, а как-то потихоньку, по частям. Чего-то в них стало убывать, уменьшаться, улетучиваться и таять, как весенний снег. Незаметно за обыденными, ежедневными, насущными заботами, но неуклонно и упрямо. Так что в один прекрасный день глядь, и нет человека. Вчера ещё был, вот тут, рядышком, рукой достать и даже потрогать можно. Не то чтобы в полноте и избытке своём был – немножко недо-, слегка неполно-, местами мало-, но был же. А нынче нет его, нет и всё, как и не было.
По началу никто на это внимания особо не обращал, списывали на усушку, утряску, короче, на естественную убыль. Но когда поползли слухи о возможном упразднении учреждения, о расчленении его на части, о перепрофилировании отдельных частей в угоду новым хозяевам под их возрастающие потребности и аппетиты, контингент задумался, задумавшись, заволновался, зашумел, а впоследствии и вовсе забузил. Не то чтобы весь, а так, некоторая весьма незначительная его часть, которая ещё не утратила способности думать, волноваться, шуметь и бузить. Инцидент сам по себе не особо опасный, но непривычный, выпадающий из утверждённого лечебного плана, а значит, требующий незамедлительных контрмер. Но меры мерами, а буза бузой. Явления эти, как известно, абсолютно параллельные, друг другу не мешающие, не взаимоисключающие, а как раз напротив, изрядно дополняющие и усиливающие одно другое. И всё бы то оно ничего, каждый занимается своим делом, но как только уровень критической массы приблизился вдруг к точке кипения…
Но не будем забегать вперёд, у каждого явления есть свой закономерный ход, своя последовательность, свой сюжет. Тем более что именно об этом сюжете, цепляющем, затягивающим стороннего наблюдателя в гущу событий, делающим его уже не посторонним, а непосредственным их участником и даже соучастником, и пойдёт речь ниже. Так что начнём, помолясь, всё по порядку.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«Вот отдам Уфаеву полтинник,
заложив последние штаны,
докажу, что самый кроткий схимник
испокон выходит из шпаны».
Руслан Элинин. Русский поэт.
Книга прервая
Искушение
I. Молодой специалист
Технический прогресс неумолим. Он идёт семимильными шагами по просторам нашей необъятной Родины. Надо сказать, что по этим самым просторам, по разухабистости отечественного бездорожья двигаться достаточно тяжело, и каждый шаг даётся ему с невероятным трудом. Так уж сложилось у нас исторически. Но он идёт себе, идёт настырно и упрямо, не взирая на преграды и трудности, огибая канавы и рытвины, преодолевая «нельзя» и просачиваясь сквозь «не положено». Устаёт правда очень. Завидки берут, как это дело поставлено у них заграницей. Стоит только созреть какому-нибудь экзотическому яблоку, налиться до краёв чудотворным соком, отяжелеть от этого самого сока и сорваться с ветки под действием естественной силы, как откуда ни возьмись, появляется некий учёный муж и непременно подставляет умный лоб под свободно падающий фрукт. Просто и эффективно – и кушать подано, и закон открыт. Может потому так много научных разработок и технических изобретений носят заграничные имена. Нашим же Кулибиным да Поповым приходится преодолевать такое количество бюрократических препонов и барьеров, что пока они обивают пороги всевозможных комитетов да комиссий, их детища уже покрываются вековым слоем священной пыли. Уже рождённые, но никому пока не ведомые, никем не любимые они с надеждой ожидают себе новых, приёмных родителей и непременно с импортными фамилиями. Справедливости ради надо сказать, что этот наш национальный обычай имеет и нечто положительное. К примеру, случись умнице Дарвину жить и, так сказать, творить не где-нибудь там в Европах, а в нашем родном Урюпинске, то всё прогрессивное человечество ни за что не догадалось бы до сих пор, что является прямым потомком обезьяны. Так и жило бы оно, не освещённое прогрессивным сиянием научной мысли во тьме религиозного дурмана, предпочитая простому и понятному обезьяньему родству, непонятный, непредсказуемый, непостигаемый промысел Божий. Но нет, не случилось, не срослось что-то. Кстати сказать, обычное, нормальное, не передовое человечество этих родословных мук разума счастливо избежало. И пошло с тех пор разделение людского общества на продвинутых обезьяноподобных и тёмных богоподобных. А поскольку, как уже было сказано выше, прогресс неумолим, обезьянье племя наступает, теснит и давит с могучим нахрапом. Потому как делать-то ничего не надо, родился и живи себе по инстинктам-понятиям – рано или поздно станешь-таки человеком, подобно обезьяньему предку. Удобно и практично. Что поделаешь – наука, как бы. Урюпинск – не Европа, а Европа – не Россия.
К чести же наших изобретателей надо отнести тот факт, что их не особенно пугают столь великие трудности на тернистом пути познания. И по сей день, слава Богу, всё ещё способна, как сказал поэт, «… своих Платонов и быстрых разумом Ньютонов российская земля рождать». И кто знает, может, недалёк тот день, когда наши доблестные Кулибины потянут тяжёлую лямку прогресса рука об руку с лучшими представителями многомиллионной армии чиновников от науки, призванных защищать последнюю от бесцеремонных проникновений ложных инсинуаций. Тогда глядишь, выиграют, наконец-то, не бесчисленные мин-прог-прос-промы, а сам вышеупомянутый прогресс. Жаль только жить в эту пору прекрасную, скорее всего, уж не придётся ни мне, ни тебе.
А покуда жизнь идёт своим, специально для неё установленным порядком, никуда не сворачивая, не уклоняясь в стороны, потому как шаг вправо, шаг влево, согласно ещё одной новой традиции – расстрел на месте. Впрочем, и в наши нелёгкие дни находятся люди, радеющие за науку и плоды её, а не за возможность сытно кормиться этими самыми плодами. Не всё так уж плохо в доме нашем. Кое-где, нет-нет, да и пробьётся иной раз слабенький лучик света в тёмном царстве. Нет-нет, да и осветит неуверенным мерцающим сиянием молодой побег истины, проросший сквозь терние и несущий миру новые возможности прожить жизнь чуть-чуть легче, мал-мал интересней и хоть сколько-нибудь полезней.
В одном из многочисленных заведений под гордой и даже где-то монументальной вывеской «Бюро научно-технических разработок и изобретений „ЯЙЦА ФАБЕРЖЕ“» царила, как всегда, деловая атмосфера и чисто научный порядок. Добросовестные сотрудники конторы дело своё знали туго, относились к нему со всей серьёзностью и ответственностью. Хотя и понятия не имели, в чём же так провинился старик Фаберже, кстати говоря, к науке и к технике имеющий весьма и весьма отдалённое отношение, что поплатился своими яйцами, украшающими ныне вывеску над парадным подъездом учреждения. Да и не в старике дело. Главное, что народ подобрался серьёзный, образованный, грамотный, с разумной инициативой и свойственной всей околонаучной братии жёсткой деловой хваткой. Шутка ли, ко всем просителям подобрать индивидуальный подход, разобраться во всех труднопроизносимых словах и малоизученных буквах, отделить, наконец, полезные и нужные идеи от однозначно признанных чуждыми, не нашими? Надо сказать, персонал справлялся со своей задачей весьма успешно. Инструкций и директив не нарушал, отчитывался вовремя, без задержек и проволочек, всегда был в первых рядах во всех общественно полезных массовых мероприятиях. Но и не высовывался, когда на активную жизненную позицию указаний сверху не поступало. В общем, был на хорошем счету у вышестоящего руководства. Кто знает, может так продолжалось бы и дальше, если бы в одно прекрасное летнее утро не произошло некоторое, ничем не замечательное на первый взгляд событие, вылившееся в удивительную историю, одну из множества удивительных историй, из которых, как старое бабушкино одеяло из лоскутков, соткана наша потрясающе интересная и богатая приключениями жизнь.
Это утро начинало собой первый рабочий день молодого инженера Жени Резова, только-только окончившего курс одного из престижных технических вузов столицы, с блеском защитившего дипломную работу и рвавшегося на изобретательское поприще, как молодая невеста на брачное ложе. С глубокого детства Женю неодолимо тянуло к технике. Среди своих сверстников и их родителей он слыл натурой увлекающейся, и не без основания. Будучи ещё ребёнком, он с успехом сумел разобрать механический будильник популярной марки «Слава», от чего пришёл в неописуемый восторг. Результат сборки, правда, оказался менее воодушевляющим и даже повлекшим за собой некоторые негативные последствия, так как утром мама и папа проспали на работу, а будущий инженер получил первый горький опыт, который, как известно, сын ошибок трудных. Затем мальчика заинтересовало устройство электроутюга. Он некоторое время присматривался к загадочному агрегату, потом, улучив момент, когда родителей не было дома, приступил к изучению его содержимого. На сей раз всё обошлось как нельзя лучше – утюг был не только разобран, но и благополучно собран. При этом не осталось ни одной лишней детальки, так что никто ничего не заметил. Только через несколько дней весь дом на какое-то время остался без электричества, и беда эта как раз совпала с маминым намерением погладить Женину рубашечку. Пришлось покупать новый утюг, а со временем также и кофемолку, миксер, фен и прочие мелкие бытовые приборы. Родители очень любили своего единственного сына, который был у них к тому же поздним ребенком – венцом всех чаяний и тайных надежд, но, тем не менее, оставшуюся пока в доме технику попрятали.
Вообще, Женя рос послушным мальчиком и огорчал родителей не часто, больше радовал. Он отлично учился в школе, посещал несколько кружков детского творчества, играл в шахматы, участвовал в олимпиадах по математике, физике, химии, после школы легко поступил в институт, в котором также числился среди лучших. Было очевидно, что судьба уготовила ему научно-техническое поприще, на котором он чувствовал себя, как рыба в воде. Одно только обстоятельство немного огорчало родителей. Женя был несколько рассеян – часто терял ключи, приходил из школы с чужим портфелем и в чужом пальто, а то и вовсе без пальто и портфеля, в трамвае проезжал свою остановку, а на лифте свой этаж, постоянно пребывал в состоянии какой-то недетской задумчивости. А однажды даже был замечен за сочинением стихов, что в дальнейшем повторилось неоднократно. В общем, вел себя как самый обыкновенный вундеркинд. Даже уже обучаясь в вузе, он так и не завёл друзей, и что особенно настораживало, у него всё ещё не было девушки, тогда как некоторые его сверстники-студенты уже скрывались от алиментов.