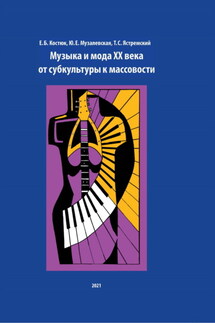Путешествие внутрь иглы. Новые (конструктивные) баллады - страница 17
Ситуация коренным образом меняется, когда тот или иной отрезок жизни заканчивается и замыкается на самом себе, становясь по субстанции уже фазой бытия, но и тогда остается некоторая стилистическая незаконченность, которая оставляет на языке привкус эстетической неудовлетворенности, последняя исчезает вполне лишь тогда, когда заканчивается вся жизнь, – только полный и необратимый финал расставляет окончательные акценты: вот почему смерть, являясь антиподом жизни, выступает одновременно главным творческим инструментом бытия, она для него – как слова для поэта, как краски для живописца, как звуки для композитора, как мрамор для ваятеля.
Великим таинством смерти бытие запечатывает жизнь, придавая ей раз и навсегда тот высший и глубоко художественный смысл, который равно далек как от теологического оправдания жизни, так и от полного нигилизма, смысл этот тем более заслуживает внимания, что как-то сразу и насквозь пронизывает нас – от кожных рецепторов до самых субтильных и одухотворенных глубин нашего существа, – и вот оптическим аналогом человеческого бытия является, как нам кажется, взгляд в профиль.
VI. Баллада о Возвращении
Возвращаясь домой после очередной воскресной прогулки, я иду обычно через центр города, где каждый отрезок маршрута, будучи пройден многие тысячи раз, напитан воспоминаниями, как кусок янтаря медом веков, конечно, иной раз думаешь: а не свернуть ли в какой-нибудь малознакомый переулок, чтобы придать ритуальному пути хоть какое-нибудь разнообразие? однако, поразмыслив минуту-другую, я продолжаю идти по знакомому маршруту, точно какая-то посторонняя сила не позволяет свернуть в сторону, – так, наверное, малоопытный рисовальщик, отрабатывая чей-нибудь профиль и найдя правильный абрис, уже не рискует новым штрихом отклониться от него и лишь по инерции повторяет карандашные росчерки, отчего рисунок делается толще и отчетливей, причем эта примитивная в своей основе весомость не только не боится однообразия, но даже откровенно и точно кому-то назло всячески ее подчеркивает.