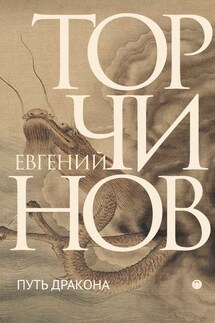Пути философии Востока и Запада. Познание запредельного - страница 3
«Из сохранившихся до наших дней древнейших мировых культур наиболее отличные друг от друга западная (европейско-средиземноморская по своему происхождению) и китайская. Их взаимная полярность имеет очень глубокие антропологические, а не только социальные и историко-культурные корни, выражаясь в различии психотипов и, возможно, отражая разные варианты сапиентации человека в двух разных и достаточно удаленных друг от друга точках земного шара. Китайский вариант – это предельно развитая культурная позиция здравомыслящего и социализованного „нормального“ человека, западный – парадоксальное отклонение от „нормы“, своего рода „извращение ума“. Формирование европейской цивилизации было обусловлено рядом уникальных и неповторимых событий („греческое чудо“, рождение капитализма, научно-техническая революция) и соответственно самоосмыслялось с помощью линейной концепции времени и признания таких абсолютно уникальных актов исторической драмы, как Боговоплощение или Второе пришествие. Напротив, китайская цивилизация развивалась циклически и самоосмыслялась в терминах теории „вечного возвращения на круги своя“.
В европейском мировоззрении, будь то платоническая философия, христианская теология или научная теория, происходит удвоение мира в его идеальной конструкции. Для китайского же натурализма мир един и неделим, в нем все имманентно и ничто, включая самые тонкие божественные сущности, не трансцендентно. В идеальном мире западного человека действуют абстрактные логические законы, в натуралистическом мире китайца – классификационные структуры, здесь место логики занимает нумерология. Социальным следствием подобного „здравомыслия“ стало то, что в Китае философия всегда была царицей наук и никогда не становилась служанкой богословия».[3]
Вот вам и вершина теологии натуральной в ее отношении к теологии богооткровенной! Но подробнее об этом несколько позднее.
Увы, столь многообещающий и сулящий обеим цивилизациям такие перспективы межкультурный диалог не пошел путем, о котором говорил Лейбниц, и завяз в спорах о «китайских церемониях» между иезуитами и доминиканцами и в просветительских восторгах по поводу просвещенной монархии, деизма и системы экзаменов. Европа эпохи Просвещения заглянула в китайское зеркальце, увидела в нем отражение своих собственных проблем, подправила прическу и пошла своим путем. Век несбывшихся надежд и нереализовавшихся возможностей продолжался.
Восемнадцатый век для нас – век Просвещения. И говоря о нем, мы сразу же вспоминаем о Вольтере и Руссо. Но вместе с тем это был также век Канта и Моцарта. Два величайших гения жили и творили одновременно, но в памяти потомков суть столетия определили отнюдь не их имена.
Кто такой Кант? Гений, конечно, но гений чего? Великий философ или могильщик философии? И то и другое. После Канта метафизика действительно стала невозможной. Все надежды и чаяния, доставшиеся потомкам в наследство от XVII в., потерпели полный крах. Трагедия, поистине цивилизационная катастрофа! Где точное математическое знание о Боге, душе и мире? Где чары more geomethrica?
Вначале, впрочем, метафизики даже возликовали, увидев в кантовской критике новые возможности для постижения своих излюбленных абсолютов. Только теперь их стали искать не в абстракциях чистого разума, а в самом субъекте. И вот кантовский субъект, который у самого Канта точно уравновешен объектом (собственно, эпистемологический дуализм субъекта и объекта есть своего рода ось трансцендентальной философии), начинает распухать и раздаваться в вечности и бесконечности. Вслед за фихтеанским Я появляется шеллингианский Абсолют. Это все тот же кантовский субъект, но теперь уже вполне божественный. Да и не совсем субъект: в самотождестве Абсолюта субъект и объект торжественно совпали! И наконец, венцом этой посткантовской метафизики стал, конечно, гегелевский панлогизм.