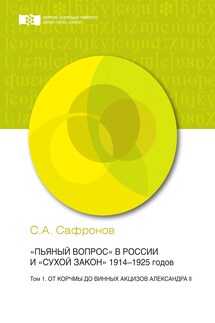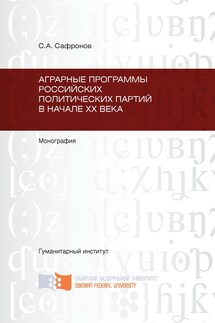«Пьяный вопрос» в России и «сухой закон» 1914-1925 годов. Том 2. От казенной винной монополии С.Ю. Витте до «сухого закона» - страница 21
В 1880–1890-х гг. стали входить в моду шашлыки: «Популяризировал шашлык в Москве Разживин. Первые шашлыки появились у Автандилова, державшего в семидесятых годах первый кавказский погребок с кахетинскими винами в подвальчике на Софийке. Потом Автандилов переехал на Мясницкую и открыл винный магазин. Шашлыки надолго прекратились, пока в восьмидесятых–девяностых годах в Черкасском переулке, как раз над трактиром "Арсентьича", кавказец Сулханов не открыл без всякого патента при своей квартире кавказскую столовую с шашлыками и – тоже тайно – с кахетинскими винами, специально для приезжих кавказцев. Потом стали ходить и русские. По знакомым он распространял свои визитные карточки: "К. Сулханов. Племянник князя Аргутинского-Долгорукова" и свой адрес. Всякий посвященный знал, зачем он идет по этой карточке. Дело разрослось, но косились враги-конкуренты. Кончилось протоколом и закрытием. Тогда Разживин пригласил его открыть кухню при "Петергофе". Заходили опять по рукам карточки "племянника князя Аргутинского-Долгорукова" с указанием "Петергофа", и дело пошло великолепно. Это был первый шашлычник в Москве, а за ним наехало сотни кавказцев, шашлыки стали модными»35.
Как и раньше, проходили народные гуляния. На протяжении десятилетий и даже столетий их зрелищная сторона существовала в почти застылом виде: балаганы, паяцы, раешник, катальные горы, качели и карусели36. Писатель Алексей Михайлович Ремизов писал, что когда он попал в начале 1890-х гг. во время праздника Смоленской Божьей Матери на гулянье на Девичьем поле (или, как говорили в Москве «под Девичьим», подразумевая монастырь), то был поражен, как мало гулянье изменилось в сравнении с рассказом историка М.П. Погодина (жившим рядом с Девичьим и оставившим описание в 1863 г.): «У балагана безобразничали два паяца: розовый и палевый, раешник по-прежнему легко и не прерывая, точно пишет "уставом", сказывал свои сказы и Балду, от которых "и самый снисходительный цензор заткнул бы себе уши", больше всего народу у крайней к монастырской стене палатки: там шарманка и под шарманку песня и пляшут». На это А.М. Ремизов верно подметил, что «нигде ведь нет такой закоснелости, как в развлечениях»37.
Народные гулянья почти до конца 1890-х гг. проводились на открытом воздухе – в Санкт-Петербурге на Адмиралтейской площади, на Марсовом поле; в Москве – на Новинском бульваре (с 1870-х были перенесены на Девичье поле), за Пресненской заставой, на Воробьевых горах, в парке Сокольники. Во время таких гуляний один и тот же спектакль мог играться в течение дня от 6 до 10 раз. Это было утомительно для актеров, но они были рады стараться получить одобрение простонародных зрителей. Как правило, перед сценой устраивались сидячие платные места, остальные зрители стояли позади и по бокам рядов стульев. Посмотреть спектакль собиралось до 3 тыс. чел. Излюбленным репертуаром публики были инсценировки русских народных сказок («Кащей», «Сказка о золотой рыбке»), народных былин («Илья Муромец», «Добрыня Никитич», «Садко»); сюжетов, заимствованных из оперных либретто («Аскольдова могила», «Рогнеда»); популярных литературных произведений (например, фантастических романов Жюль Верна «Вокруг света в 80 дней», «Дети капитана Гранта»). В закрытых помещениях, какими были балаганы, большие залы вмещали до 1 000– 1 200 чел. Здесь «представления шли с 12 часов дня, повторяясь в течение дня 8–10 раз, в последние дни и до 12 раз», при этом «антракт между одним и другим представлением длился очень недолго, а именно, пока успевала публика выйти из театра и новая, ожидавшая, войти». В провинции народными гуляньями всегда сопровождались сезонные ярмарки. К примеру, во время ярмарочной торговли в Полотняном Заводе Калужской губернии, молодежь окрестных сел и деревень развлекалась на каруселях и в балаганах: «Шумными толпами ходит народ по ярмарке. Больше всего веселится, конечно, молодежь: парни, девки, подростки, ребятишки. Для них, прежде всего и крутятся карусели под хриплые, щербатые шарманки. Они же шумными компаниями протискиваются к балаганам посмотреть на человека, пожирающего пламя, на бородатую женщину, на лимонно-желтых морщинистых лилипутов или на борьбу "всемирных чемпионов" – одним словом на все бессмертные "номера" народных гуляний»