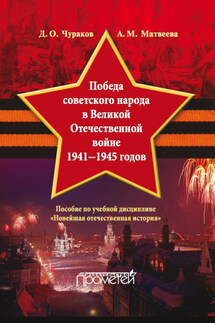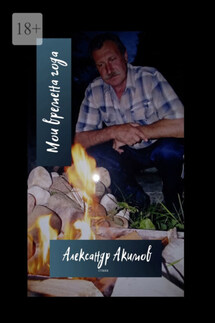Рабочее самоуправление в России. Фабзавкомы и революция. 1917–1918 годы - страница 8
Действенная практика кооператоров сводилась к проникновению во все новые органы власти, продвижению на руководящие посты «своих» людей. Так, в Кинешме созданный Революционный комитет общественной безопасности возглавил председатель местного союза кооперативов меньшевик А. С. Колодин, а Совет рабочих депутатов – инструктор того же союза меньшевик Я. А. Савченко. Сыграли свою роль кооператоры и в самой Москве. Здесь упомянутый выше ВРК всё время его существования возглавлялся членом правления общества «Кооперация» А. М. Никитиным. Вскоре Никитин делается первым председателем Моссовета. После того как 5 марта 1905 г. он становится руководителем Комитета общественных организаций, председателем Моссовета избирается другой кооператор – меньшевик Л. М. Хинчук, одновременно являвшийся членом бюро Московского союза потребительских обществ. Его заместителями становятся внефракционный социал-демократ, руководитель Союза рабочих кооперативов Москвы И. И. Егоров, а также большевик В. П. Ногин, до переворота занимавший должность секретаря неторгового отдела общества «Кооперация»>40.
«Легко и красиво», по определению журнала «Объединение», «взяли в свои руки власть» кооператоры Тулы>41. Провозгласили 3 марта создание Совета рабочих депутатов кооператоры Твери и вошли в него. В целом же по району инструкторы Московского областного бюро Советов (Мобюс) в своих отчётах отмечали особое значение кооперации в организации власти в Ярославле, Ростове Великом, Иваново-Вознесенске, Твери, Туле, Костроме, Кинешме, Шуе, Кольчугине, Переяславле-Залесском, Кашире, Вышнем Волочке, Смоленске>42. Не секрет, что ещё до переворота многие из деятелей рабочей кооперации, рабочих групп ВПК и других подобных объединений были тесно связаны с руководством Прогрессивного блока>43. Поэтому «передачу» Советами власти Временному правительству можно считать скорее заранее предусмотренным шагом, чем «парадоксом Февральской революции», как называл это событие Л. Троцкий>44.
Окончательно институты новой власти и самоорганизации общества складываются в Центральной России вскоре вслед за Петроградом. Положение здесь многим напоминало происходившее в столице, но в некоторых важных аспектах было более сложным, что было связано с неопределённостью первых шагов революции в Петрограде и плохо налаженным информационным обменом. В Москве и многих других городах Центрально-промышленного района власть пришлось делить не только и не столько между буржуазными и советскими органами власти, сколько между органами, возникшими на демократической основе, и органами, авторитарно назначенными из центра. Причём, это противостояние проявилось и внутри самого либерального лагеря. В этом сразу же проявилась специфика двоевластия в провинции. Но в целом в ЦПР, за исключением Иваново-Вознесенска, где голод создавал плохой фон для общественного успокоения, и ещё некоторых городов, где положение было столь же тяжёлым, буржуазии удалось внешне стабилизировать власть.