Ради радости - страница 2
Не меньше, чем обезьян, в Ришикеше было и нищих – кормление которых я наблюдал с большим интересом. На просторном дворе, под раскидистым фикусом, дымилась армейская кухня, к которой выстраивалась живописная очередь из полутора сотен бродяг. Молодые и старые, длинноволосые, с холщовыми сумками через плечо, нищие – все, как один, были очень красивы. Лица их были ясны, глаза – глубоки и спокойны. Достоинству, с которым они ожидали свою миску похлёбки, мог бы позавидовать и какой-нибудь принц. Получив порцию чечевичного супа, щедро сдобренного перцем – я как-то попробовал: чистый огонь! – нищие рассаживались по двору и начинали неспешную трапезу. Всё было чинно и благородно; ни суеты, ни жадности, ни беспокойства нельзя было заметить во время раздачи бесплатной еды.
Однако пора было обедать и мне. Не утруждая себя сложным выбором, я подходил к ближайшей тележке, нагруженной фруктами, и за двадцать рупий покупал гроздь бананов – маленьких и невзрачных, но сладких. Садился в тени, с наслаждением вытягивал ноги и, не спеша, поглощал один банан за другим. До России такие бананы, увы, не довозят: здесь мы едим какие-то суррогаты. А те, в Ришикеше, были настолько вкусны и душисты, что хотелось съесть даже бурую банановую кожуру.
Впрочем, до кожуры быстро находились охотники. Увлечённо жуя, я вдруг слышал сопение за правым плечом и, обернувшись, видел печальную морду коровы. Она, шумно вздыхая, тянулась губами к остаткам банановой грозди. Так мы с ней вместе и доедали обед: я очищал очередной банан, сам жевал мякоть, а корове протягивал мясистые лоскуты кожуры. Было приятно чувствовать, как шершавый язык и мокрые губы коровы шлёпают мне по ладони; я легко ей прощал даже то, что она исслюнявила мне всё плечо.
Не в тот ли момент, когда я трапезничал вместе с коровой, я и почувствовал Индию как не просто страну, но как особенный склад бытия? Я чувствовал: эта корова, чей взгляд так глубок и прекрасен, а вздохи печальны, есть не просто животное, близкое мне, но это как будто я сам. Каждый вздох её так отдавался в душе, словно она за меня самого выражала и мою грусть, и усталость от жизни, и одновременно любовь ко всему, что нас с ней окружало. И великая древняя истина Индии «тат твам аси» – «то есть ты сам» – вдруг становилась настолько понятна, что я удивлялся другому: да как же я раньше мог жить без неё?
БАТОНЧИК «ЗАДАВАКА». Почти сутки пришлось провести близ Онежского порта, ожидая моторку, которая могла бы забросить нас на Кий-остров. Порт был безлюден: казалось, он никому в целом мире не нужен. Дебаркадер ржавел; почти все рейсы были отменены; доски и ялики гнили по берегу; несколько тощих собак бродили средь луж, словно тени былого.
Знобящее и беспокойное чувство рождалось в душе при виде всей этой северной шири: Онежской губы, по которой в отлив обнажались десятки осклизлых и плоских, как шляпки опят, островов; низких речных берегов, так обдутых ветрами, что даже смотреть на них и то было холодно; серой онежской воды, которая в час отлива с молчаливою мощью неслась в Белое море, а во время прилива бурливо и нехотя двигалась вспять. На душе было тоже просторно и холодно, ветрено и бесприютно. В том, что порт, оживлённый когда-то, теперь так заброшен, что на берегу, кроме нас с другом да бродячих собак, больше нет ни души, в этом было, конечно, много печали, но ощущалось ещё и согласие с ходом вещей – с тем движением времени, что уносит следы человека с такою же равнодушною силой, с какой и Онега несёт свои воды в холодное Белое море.

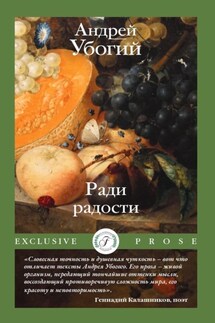


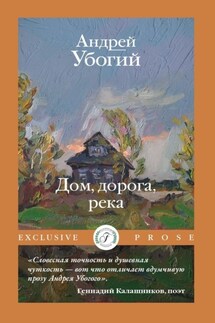

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



