Ради радости - страница 33
Но вот какую ложку свернуть в узел было нельзя, так это исконно крестьянскую, деревянную, её можно было только сломать или сжечь. Оставшись, быть может, последним из символов избяной деревенской Руси – той, есенинско-клюевской, канувшей в Лету, – деревянная ложка доносит до нас отголоски уклада веками отлаженной жизни. Тем более что деревянная ложка давно уж не столько прибор для еды, сколько ещё и музыкальный инструмент или предмет декоративного искусства. Костяной перестук этих ложек, рассыпанный под «Камаринского» или под «Барыню», напоминает лихой перестук кастаньет, их испанских сестёр.
А когда деревянные ложки расписаны мастерами из Палеха или Мстёры, то глаз не оторвать от их лаковой пестроты, от яркости черни и золота, охры и киновари. Такую ложку и в суп-то бывает жаль опускать, её только держать, как цветок, за стебель да любоваться её красочным буйством.
Но когда всё же ешь деревянною ложкой, то возникает чувство, что ты поедаешь именно ложку, а сама еда – это всего лишь придаток к ней. Ты и облизываешь ложку, и прикусываешь её, и стараешься так её обсосать, словно это не ложка, а мозговая сладкая кость. Недаром деревянные ложки, бывшие в частом употреблении, становятся стёрты, обгрызены – именно «съедены», как о них говорят.
Излишне писать, что любая еда, если зачёрпывать её деревянною ложкой, обретает вкус изначальный и правильный. Разве можно сравнить горшок гречневой каши или тарелку наваристых щей, рядом с которыми мы положили любимую деревянную ложку, с теми же блюдами, но оснащенными ложкой стальной? Есть простую, исконную пищу металлической ложкой почти то же самое, что выйти на пахоту или покос в бальных лаковых туфлях: смешно, неуместно, неловко.
Вообще, раз уж мы заговорили о деревянных ложках, можно добавить, что расписная липовая ложка – своего рода портрет той нации, что её сотворила. Она и проста – даже, можно сказать, простодушно-наивна, – она небогата и недолговечна (а русские и до сих пор живут меньше других), но в то же самое время душевна, тепла и нарядна и очень талантлива. Деревянная ложка – это и танец, и песня, которую мы порой держим в руках, часто даже не замечая того, каким праздником нас одарила судьба.
ЛОЗА ЧЕРНОГОРИИ. Черногория очень красива. Но, как всегда, чем прекрасней что-либо, тем труднее поведать об этом словами. Это как с девушкой: чем она больше нравится, тем глупее твой вид и нескладнее речи.
Вот как отразить на бумаге не просто серпантин горной дороги – наш как бы взлёт по каньону, над бирюзовою лентой реки, что мелькает внизу, среди бурых скал, – но ещё и ту смесь восторга и страха, которая охватывала, когда колесо автобуса на поворотах чуть ли не повисало над бездной, где на дне пропасти ржавели останки рухнувших туда автомобилей? А водитель к тому же гнал так, словно он торопился скорее попасть не то в рай, не то в ад, уж не знаю, куда ему было назначено.
Наконец мы остановились у горного монастыря и с облегчением ступили на твёрдую землю. Я, как обычно, отбился от группы и пошёл побродить по задворкам: мимо пасеки, где возился монах с дымарём, мимо скудного монастырского огорода и виноградника, обошёл вокруг храма, который по форме и цвету почти не отличался от окружающих скал, и вышел к церковной лавке, где торговали богослужебною утварью. Здесь были свечи, кресты и иконки, цепочки и чётки, бутылочки масла, молитвенники и лампадки цветного стекла. И вдруг среди этих, мерцающих позолотой предметов я увидел приличных размеров бутыль, на которой было написано «лоза». Встретить бутыль виноградного самогона вот именно здесь, где всё было чинно и благопристойно, где воздух пропитан был воском и ладаном, вовсе не показалось мне странным. Я вспомнил, что латинское «spiritus» означает как «спирт», так и «дух». Да и само получение спирта – возгонку – изобрели как раз в монастырях ещё в раннем Средневековье, так что здешняя лоза занимала своё законное место.

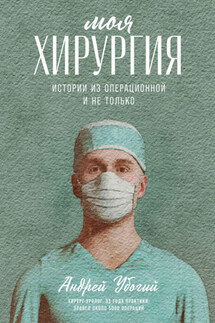
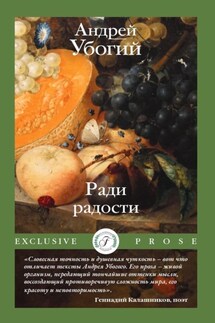

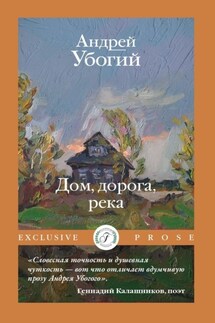

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



