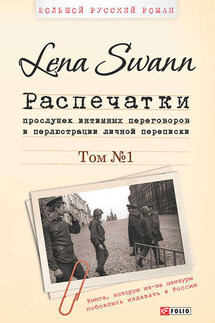Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2 - страница 61
Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2
Книга Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2 сейчас недоступна, скоро мы все починим. Попробуйте зайти позже.
Похожие книги
Роман-Фуга. Роман-бегство. Рим, Венеция, Лазурный Берег Франции, Москва, Тель-Авив – это лишь в спешке перебираемые ноты лада. Ее знаменитый любовник ревнив до такой степени, что установил прослушку в ее квартиру. Но узнает ли он правду, своровав внешнюю «реальность»? Есть нечто, что поможет ей спастись бегством быстрее, чем частный джет-сет. В ее украденной рукописи – вся история бархатной революции 1988—1991-го. Аресты, обыски, подпольное движе
Можно ли считать «реальностью» жестокую и извращенную мирскую человеческую историю? Ответ напрашивается сам собой, особенно с недосыпу, когда Вознесение кажется функцией «Zoom out» – когда всё земное достало, а неверующие мужчины – кажутся жалкими досадными недоумками-завистниками. В любой город можно загрузиться, проходя сквозь закрытые двери, с помощью Google Maps Street View – а воскрешённые события бархатной революции 1988–1991 года начинают
Что делать монаху, когда он вдруг осознал, что Бог Христа не мог создать весь ужас земного падшего мира вокруг? Что делать смертельно больной женщине, когда она вдруг обнаружила, что муж врал и изменял ей всю жизнь? Что делать журналистке заблокированного генпрокуратурой оппозиционного сайта, когда ей нужна срочная исповедь, а священники вокруг одержимы крымнашем?Книга о людях, которые ищут Бога.
Задаётся Дия вопросами: необъяснимое или непознанное; случайность или неизбежность? Нет случайностей, во всём есть смысл, за неурядицей всегда наступает прояснение – осознала, когда открылась тайна её рождения и способности, коими наделена. Девушка не поддалась искушениям, сердцем выбрала жизненный путь.
Аркана – Богиня света, даровавшая Вселенной свет и энергию. Она поддерживала равновесие в мирах в течение многих тысячелетий, пока тьма не пустила свои корни. Сможет ли Аркана одолеть надвигающееся зло, всесильное и могучее?
Сказка для взрослых о хитросплетениях судьбы и предназначении. Речь идёт о древнем культе, который веками работает над созданием человека, способного вместить в себе силу древнего божества, дарующего бессмертие и вечную жизнь на земле.
Можно очень сильно утомиться от жизни, если не участвовать в ней. Опыт каждого человека находится где-то между привычным и истинным, между искренностью и сомнениями. Вы верите, что только от вас зависит жизнь? Сомневаетесь? И чего же вам не хватает? Преданной дружбы или верной любви? Но готовы ли вы стать преданными и верными? Чудес не бывает, есть только невероятные случайности…
Бог? В чем смысл жизни? Главный герой рассказа «Жертвы» наверняка задавался этим вопросом не раз. А задаешься ли этим вопросом ты, дорогой читатель?
– Мне прислали видео.– И что там? Милый котик или новая сумочка подруги?– Нет, там ты… с другой женщиной. Ты были с ней во время нашей свадьбы.Тимур, наконец, обращает на меня внимание. Склонив голову, он холодно смотрит.– Что дальше? Будет истерика? Удиви меня. Не такой реакции я ожидал.– Ты обманул меня, изменил, предал! – слезы душат.– А ты думала, что вышла замуж за принца? Я купил тебя, ты должна родить мне сына! Но ты пустая, даже на это не