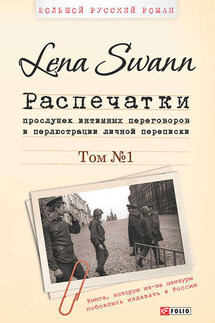Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2 - страница 64
И потом, когда Елена разжевала даже сладкую серебряную бусину глаза, Франциска как-то успокоенно выдохнула:
– Ну вот, теперь все будет хорошо. Иди.
И обняв ее, без всякой грусти, как будто расстается ровно на пять минут, Франциска улыбнулась и вприпрыжку, но чуть прихрамывая, побежала к другому зданию:
– У меня спевка хора – там, во внутреннем храме! Я бы тебя пригласила. Но тебе же к своим идти надо. Ничего не бойся. Увидимся! До скорого.
И это ее прощальное «До скорого» с каждым шагом, пока Елена шла обратно по направлению к церкви, все сильнее и сильнее освещало ее изнутри; как будто проглоченный впопыхах кусочек марципана излучал жаркое сияние и превратился в автономный реактор внутри нее, так что через несколько метров ей казалась, что она уже не идет, а летит, движется на воздушной подушке, не касаясь земли.
«До скорого. До скорого», – повторяла она – и это был как якорь, заброшенный у самого прекрасного из берегов, который в секунду перевесил все глупые мелочи.
Оглянувшись на скульптуру Катарины Сиенской – в самом центре внутреннего дворика, она, не веря своим глазам, вдруг разглядела, что у ног Катарины сидят две очень усатые кошки, один чрезвычайно интеллигентный павлин и одна крайне улыбчивая лягушка.
«Кроликов французских не хватает. И Бэнни с Куки», – дорисовала Елена; окинула еще раз прощальным взглядом зацветающий дворик и горы за озером, теперь будто обернутые жатой папиросной бумагой: вот она, вся послевоенная история Франциски. Ее география боя.
И влетела в церковь.
У южной, проваливающейся местами в первое тысячелетие, стены пламенели взлетно-посадочные огни в оранжевых длинненьких пластиковых стопочках на кованом чугуном столе.
Сверху, на полочке, покрытой белой скатертью с кружевными оборками, стояли махровые розовые тюльпаны, с рваными краями, в простой прозрачной баночке, и глиняный горшок с бордовыми цикламенами, вертикального взлета, в сливочную крапину.
Потолочные своды и арки при мерцающем освещении выглядели еще более изумительно неровными, рельефными, бугристыми, как будто вылепленными вручную ладошками сестричек – так что без труда можно было сказать, где лежал какой палец при лепке.
У алтаря возилась седая худенькая монахиня, отчищая что-то садовой лопаткой с мраморной предалтарной ступеньки.
Синяя с бледным золотом узина рококо алтаря в полумраке придавала храму пещерный уют.
– Сестра Синдереза! Сестра Синдереза! – шумно ворвалась в храм из южной двери дородная монахиня с нектариновыми щечками и темной челкой, пиратски выскакивающей из-под плата. – Вас зовут к телефону!
И принялась в темпе собирать молитвенники с сидений, раскладывая их столбиками в начале каждого ряда.
– Спасибо, сестра Вероника. Я тут уже все доделала, – ответила та, распрямилась, и прошествовала к двери, неся охряную лопатку в вытянутой руке, как дичь.
Елена подошла к алтарю и, с любопытством – что же там оттирала сестра Синдереза? – посмотрела на ступеньку: приалтарный перворельеф с намытыми и проеденными слезами дырами и кратерами, кой-где портили носатые рожи, слагавшиеся из каменных слоев и неровностей – кошмары из прежней жизни коленопреклоненных монашенок; а по центру на изъеденном веками камне виднелись легкие летучие лики – видимо, по большому блату запечатленные на прощание, на память о себе, душами сестер при уходе на другую, вечную, работу, даже без разрешения Консилиума, вряд ли когда-нибудь отпустившего бы их взлететь на такую высоту.