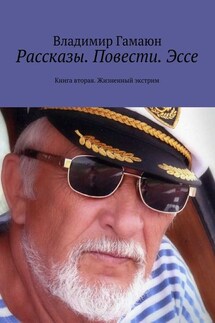Рассказы. Повести. Эссе. Книга первая. Однажды прожитая жизнь - страница 15
Мы все трое с готовностью выставляем свои «петушки» вперёд, он берёт щепоткой Мишкины штанишки между ног, потом подносит щепоть к своему носу, нюхает и оглушительно чихает. Мы хохочем, а дед чихает раз за разом да приговаривает:
– Ох, и добрый табачок, крепок, крепок.
Мне обидно и я ору:
– Дед, у меня понюхай, у меня покрепче-то будет.
Мишка язвит:
– Конечно, у него крепче будет, он сегодня в постели напрудил.
Дед даёт Михеичу в лоб щелбана и берёт у меня тоже понюшку табачку, и опять громовое:
– Апчхи-апчхи.
Мы с братом-ябедой по полу катаемся от смеха, а глядя на нас и младший, Валерка заливается хохотом, хотя пока мало чего понимает. Но детский смех это не слёзы, и у деда, глядя на нас, тоже глаза заблестели, а на суровом лице заиграла улыбка. Нам хорошо, деду хорошо, всем хорошо!
Слыша наш визг и хохот, в комнату влетает бабуля:
– Вот-вот, что старый, что малый, всё дети. Вот ужо я вас веником-то и настегаю, чтоб не озоровали.
Спасаясь от совсем не больного веника, мы с хохотом вылетаем в другую комнату, деду всё равно спать пора, устал ведь. В ночь ему опять в шахту спускаться, в забой. В углу нашей с дедом комнаты стояла его постель, нары, сколоченные им самим из толстых гладко строганных досок. Из-за больной спины он мог спать только на жёстком. На нарах лежит тюфячок, набитый сеном, засланный какой-то дерюжкой, поверх которой лежит старое солдатское одеяло. Дед, кряхтя и постанывая, ложится на своё лежбище, зевает широко раскрывая почти беззубый рот, вздыхает тяжело:
– Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие…
Подбивает повыше под голову подушку, набитую валерианой и какими-то другими травами, от которых спишь как убитый, накрывается своим видавшим виды одеялом, и через минуту храп деда уже сотрясает воздух спаленки. На полу комнаты тоже лежит духмяная трава, как на святой праздник троицу, оттого и запах стоит как на лугу.
Это бабуля постаралась, она всегда так делает, зная, что дед как старая шахтная кляча мало видит света, не видит природы, не вдыхает запаха лугов, а как можно жить без всего этого? Работа – сон, сон – работа, вот и вся жизнь старого шахтёра. Дедка наш спит, но иногда храп прерывается, и тогда из-под одеяла раздаётся мощный залп из дедовской задницы, это щи из кислой капусты с горохом чего-то не поделили. Мы с братовьями хохочем до коликов в животе, пока бабуля веником не выгоняет нас на улицу.
Дед казался нам великаном. И, казалось, не было силы, способной сломать нашего деда. После смерти папы он был хозяином в нашей семье, кормильцем и добытчиком. За ним мы были как за каменной стеной, а дед, сознавая это, молча тянул эту лямку из последних сил. И когда через три года после смерти папы, наша мама вышла замуж за фронтовика, майора в отставке, дед ушёл от нас. В семье не может быть двух хозяев, двух вожаков. Дед, желая счастья своей дочери, нашей маме, не стал отговаривать её от брака, хотя майор ему и не глянулся, как и нам, детям. Да и не смог бы он со своим крутым нравом ужиться с нашим отчимом.
Чтоб не слышать наших уговоров, отговоров, не видеть наших слёз и себе не рвать душу, дед ушёл поздним вечером, когда мы, набегавшись за день, уже спали без задних ног. Он ушёл к вдове, жене своего погибшего в шахте товарища. Пусто стало в доме без деда, мы с братишками часто сидели на его постели молча, не было желания играть, некого было встречать из шахты, открывать калитку, и даже дедовская жестяная ванна грустно ржавела на улице в напрасном ожидании хозяина.