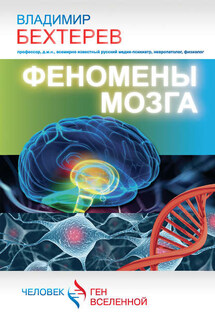Разговоры с мёртвыми - страница 3
Мой одноклассник, тот самый, о чью спину разгибали дужки кроватей, узнав, что Пашка опускался в могилу, сказал: «Дурное предзнаменование». Вот уж хуже некуда.
Я не понимал, что происходит и чей труп выносят из дома. Чужие, далёкие люди заполнили квартиру и отстранёнными взглядами скользили по стенам и полу. Как будто сговорились все стоять, молчать и блуждать взорами по стенам. Далёкие друзья отца и мои друзья, далёкая мать, далёкий брат. Люди стали чужими на время похорон. Несли деньги, внимание и понимание, и всё равно были чужие.
Через год с небольшим после смерти моего отца брат повесился. У него были проблемы в семье, он пил и презирал себя за это. Пропивал получку, а потом жил в долг. Занимал, пропивал, с получки отдавал долги, а оставшееся снова пропивал. Засыпал зимой на снегу. Его раздевали, вытаскивали из карманов деньги. Помню, как было неприятно, когда рассказывали, что Пашка лежал возле «Гастронома».
Пожив с ним немного, женщины его покидали. Потому что пил. Или, может быть, пил, потому что покидали. Не знаю.
А вообще женщины его любили: он был высокий, красивый. Был.
Смерть не старуха с косой. Это отчаяние и безысходность.
У Арийских народов был обычай пускать труп на лодке или плоту по воде. Покойника при этом сжигали, и даже слово «новь», то есть могила, происходит от древнеитальянского «navis» – лодка или греческого «нао» – теку. В «новье глядеть» означало глядеть в могилу, быть на волосок от смерти. Сама форма гробов похожа на лодку.
Вода не символ жизни, а спутник прощальных церемоний. Харон у греков перевозил мертвецов через реку Стикс. По их погребальному обряду, покойному клали в рот мелкую монету для уплаты за перевоз. Славяне клали в рот несколько мелких монет на издержки в дальней дороге на тот свет, а к гробу привешивали кафтан покойника.
Кровь течёт по венам живого, а в чреслах мёртвого – вода. Ошибаются те, кто сравнивает жизнь с бурным потоком. Ливни преследуют похоронные церемонии, разливаются по обшивке мертвецких лодок, текут по лицам провожающих в последний путь.
Хоронили брата осенью, незадолго до его дня рождения. Умер он третьего ноября, день рождения – одиннадцатого.
Ему должно было исполниться тридцать лет, мне был двадцать один. Разница в возрасте у нас составляла девять лет, и с каждым годом она становится всё меньше. Сейчас мне двадцать шесть, а ему всё те же неполные тридцать. Сейчас у нас разница – четыре года, а через пять лет я стану старше моего старшего брата. Я постарею, а он навечно останется молодым.
В девяносто девятом я учился в Иркутске на последнем курсе университета. Однажды в шесть утра меня разбудил Андрюха:
– Вставай. Тебя.
Нехотя поднялся, спотыкаясь о стулья и кровати, доплёлся до телефонного аппарата, в полусне поднял трубку:
– Алло.
На той стороне провода тишина, щелчки и треск, а затем голос мамы:
– Саша, Павлик… – Снова тишина. – Паша…
Перед глазами поплыли обои, зеркало и тумбочка, телефонный треск волнами приливал и отливал, и накатывал вновь. По голосу мамы стало понятно, что брат умер.
Я никогда больше не буду смотреть вместе с ним комедии по телевизору и смеяться взахлёб. Никогда не буду заниматься с ним спортом, слушать музыку, говорить, мечтать.
– Умер?
– Да, – далёкий голос с того конца трубки.
– Как?
Моему брату двадцать девять лет. От чего он может умереть? Ни от чего. Только в автокатастрофе, только при пожаре, только от стихийных бедствий, только в пьяной драке. Тысяча и одна причина. И одна.