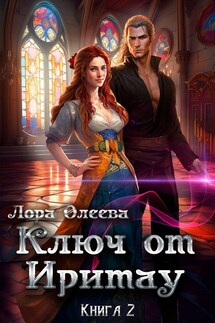Размышляя о политике - страница 10
Зона политической рефлексии – это такое совершенно условное место, в котором объекты рефлексии, включая и субъекта (если последний рефлексирует и себя), могут (в смысле английского «тау», но не «сап») стать объектами политической рефлексии. Феноменологически зона – это место возможности осознания себя субъектом политической рефлексии и осознания своих мыслей, слов и действий как политически мотивированных. Эпистемологически же только в зоне политической рефлексии возможно какое бы то ни было знание о политике – при том, разумеется, что нередко это знание и начинается с определения рамок и границ зоны и только после этого осуществляется переход к раскрытию содержания, то есть к конкретным интенциональностям и объектам политической рефлексии. Зона – это типично шифтерное понятие, переходящее с одной политической ситуации на другую, с одного социально или географически локализуемого места на другое, с одного времени на другое. Так, в ретроспективе начала XXI века какие-то ничтожные, казалось бы, шестнадцать лет, отделяющие книгу «О войне» Клаузевица от «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса, видели первую с Французской революции радикальную смену типов политической рефлексии и, соответственно, сильное перемещение зон этой рефлексии.
«Манифест» сейчас нам видится как гениальная метафора трансформативной интенциональности политической рефлексии тогдашних предтеч коммунизма XX века. Заметьте, однако, здесь коммунизм абсолютно трансформативен и не более чем относительно экстенсивен. Последнее, мы думаем, связано с тем, что капитализм того времени только переходил в экстенсивную фазу политической рефлексии, получившую впоследствии название «империализм». «Манифест» является метафорой и по своей первичной коммуникативной функции. Ведь как текст он автокоммуникативен, то есть адресован «своим», но его внешние адресаты, сколь это ни курьезно выглядит, – это страны, государства с их правительствами. Говоря строго политически, субъективная цель его авторов («авторская интенциональность» по Лео Штраусу) – это смена образа правления, а не уничтожение капиталистических производственных отношений. Не замечательно ли, что сущность «Манифеста» видна гораздо яснее в его стиле, чем в содержании (кстати, стилистически «Манифест» очень напоминает «Протоколы сионских мудрецов», написанные примерно через полвека). Мы особо останавливаемся на «Манифесте», потому что он представляет собой уникальную экспозицию политической рефлексии в ее основных интенциональностях. На второе место по четкости экспозиции мы бы поставили все те же «Протоколы», а на третье «Майн кампф» Гитлера, хотя в последней чрезмерен упор на консервативную биографичность, чем несколько ослабляется ее первичная трансформативность.
Теперь мы позволим себе, в порядке эпистемологической вылазки, сделать предельную выжимку содержания «Манифеста», которая будет выглядеть примерно следующим образом: «Нас мало, очень мало, постигших суть истории. Мы обращаемся к вам, которых много, очень много, не знающих сути истории. Мы обращаемся к вам, чтобы, познав суть истории (знание – сила), вы вступили в борьбу с ними, которых много, но меньше, чем вас, и которые также не знают сути истории». Произведем элементарный феноменологический анализ этой выжимки. «Мы» – это не теоретики революции или стратеги классовой борьбы, а мастера политической рефлексии, то есть профессиональные политики. «Вы» – потенциальные субъекты политической рефлексии. «Они» – являются тем, что мы называем «третий контингент», то есть такой шифтерный объект политической рефлексии, признак или признаки которого могут переходить с одной группы людей на другую (или даже с одного субъекта на другой) в течение одной фазы и в пределах одной данной зоны политической рефлексии. Важнейшая содержательная черта понятия «третьего контингента» заключается в том, что экономика здесь редуцируется к политике, а политика – к этике.