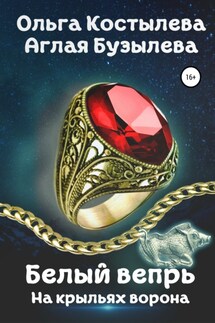Разоблаченная Изида. С комментариями. Том 2 - страница 69
«Мудрейшие и лучшие люди языческого мира, – добавляет д-р Уорбертэн, – все единодушно сходятся на том, что мистерии были учреждены безупречными и преследовали благороднейшие цели, применяя достойнейшие средства»[187].
В этих знаменитых ритуалах, несмотря на то, что туда допускались лица обоих полов и всех классов общества, и участие в них даже было обязательным, в действительности лишь немногие достигали высшего и окончательного посвящения. Градации мистерий даны Проклом в четвертой книге его «Теологии Платона»:
«Обряд совершенствования teleth предшествует по порядку посвящению – muesis, и [высшему] посвящению – epopteia, или заключительному апокалипсису (откровению)».
Феон из Смирны в «Математике» также делит мистические обряды на пять частей, «первой из которых является предварительное очищение; ибо также не все допускаются к мистериям, кто их желает… имеются некоторые люди, предупреждаемые голосом глашатая (Khrux)… так как необходимо, чтобы те, кто не исключен из мистерий, сначала были утончены некоторыми очищениями, за которыми следует восприятие священных обрядов. Третья часть носит название эпоптейа, или принятие. А четвертая, являющаяся завершением и целью откровения, представляет собою повязывание головы и возложение венцов[188]… станет ли он (посвященная личность)… иерофантом или будет выполнять какую-либо другую функцию священного служения. Но пятая часть, которая является результатом всех предыдущих, есть дружба и внутреннее общение с Богом».
И это была самая последняя и самая благоговейная изо всех мистерий.
Имеются писатели, которые часто задумывались над значением этой выраженной претензии на «дружбу и внутреннее общение с Богом». Христианские авторы отвергали притязания «язычников» на такое «общение», утверждая, что только христианские святые способны на это; скептики-материалисты вообще насмехались над этой идеей обоих. После долгих веков религиозного материализма и духовного застоя стало весьма трудно, если не совсем невозможно, обосновать притязания обеих партий. Древних греков, которые когда-то толпились вокруг агоры Афин с ее алтарем «Неизвестному Богу», – больше нет; а их потомки твердо верят, что они нашли этого «Неизвестного» в еврейском Иегове. Божественные экстазы ранних христиан уступили место видениям более современного характера в полном согласии с прогрессом и цивилизацией. «Сын Человеческий», являющийся восхищенному взору древнего христианина грядущим из седьмых небес в облаке славы и окруженным ангелами и крылатыми серафимами, уступил место более прозаичному, но в то же время и более деловитому Иисусу. Последнего теперь показывают совершающим утренние визиты Марии и Марфе в Вифании и садящимся «на диван» с младшей сестрой, любительницей «этики», тогда как Марфа отправляется на кухню готовить. Недавно разгоряченная фантазия кощунственного бруклинского проповедника и шута, достопочтимого д-ра Толмеджа нарисовала ее [Марфу] бегущей назад «со вспотевшим лбом и с кувшином в одной руке и со щипцами в другой… она подбегает к Христу» и бранит его, что он не обращает внимания на то, что сестра предоставила «ей одной обслуживать их»[189].
Со времени рождения торжественной и величественной концепции о непроявленном божестве адептов древности до таких карикатурных описаний Того, Кто умер на Кресте за свою филантропическую преданность человечеству, прошли долгие века, и их тяжелая поступь, кажется, почти полностью изгладила всякое чувство духовной религии в сердцах называющих себя Его последователями. Поэтому неудивительно, что выражение Прокла более не понятно христианам и отвергается, как «причуда», материалистами, которые в своем отрицании менее кощунственны и атеистичны, чем многие из преподобных и членов церквей. Но, хотя греческой