Разум – на службе у Бога или дьявола? Почему мы веками строим рай, а получаем ад? Психологическое исследование - страница 57
Видимо, причина подобной нелогичности сердца в его связи одновременно с двумя основаниями внутреннего мира человека и необходимости, как посреднику, находить контакты с каждой из них, совмещать несовместимые тенденции. А это неизбежно ведет к резким переходам от божественного к греховному и наоборот. Кроме того, чем больше сердце зажато разбухающим личностным (разумным) «телом», тем более резкой оказывается его реакция на происходящее, тем больше его «очерствение» к этой жизни. Тоска, беспокойство, страдание – удел сердца в нашей реальности. Оно все чувствует, за все переживает, то наполняясь состраданием, то взрываясь жестокостью. Подобным образом неизбежно ведет себя в этом мире все истинное и искреннее – например, любовь (приносящая блаженство и заставляющая безмерно страдать), совесть, творческое вдохновение, наконец, сохранивший подлинность человек в целом. Им не дано отказаться ни от реального, ни от идеального. Их судьба – метаться между полярностями. Для Достоевского в таких метаниях, в постоянном беспокойстве, чередовании радостей и печалей – «признак великого сердца» и высшая характеристика человека.
Карл Юнг, наиболее глубокий и тонкий профессиональный исследователь психического в ХХ веке, с некоторым удивлением заключает из своих наблюдений, что нынче интеллектуально дефективный ребенок, имея заметное умственное отставание, может отличаться «богатством сердца, надежностью и самоотверженностью» (162, 75). В этой связи он выделяет и даже противопоставляет друг другу, с одной стороны, «интеллектуальные и технические способности», с другой – «дары сердца»; или – «даровитость ума» и «даровитость сердца» (162, 157-158).
Поэтому, как утверждал еще Б. Паскаль, бесконечное расстояние пролегает между разумом и милосердием. Стоит человеческому разуму дать некоторую свободу – «и уже распахнуты двери для самой гнусной распущенности» (105, 328). Для Ницше ум есть изобретательность и притворство (98, 100). И поныне самые умные дети не те, что говорят правду, а те, что умеют ловко притвориться, вовремя и искусно солгать. Увы, в наше время только овладев этими навыками они могут считать себя готовыми к жизни в мире взрослых. Как бы споря с Сократом, верившим в добродетельность разумного и знающего, Ларошфуко замечает: «Наши добродетели – это чаще всего искусно переряженные пороки» (139, 207).
Принципиально разнятся между собой разум и сердце по критерию управляемости. Разум – приспособленец, марионетка обстоятельств, флюгер, ориентирующийся на то, «откуда ветер дует». Собственно, такова его изначальная цель – обеспечить себе максимальное удобство во взаимоотношениях со средой. Ради этого он готов, когда нужно, услужливо умолкнуть, лицемерно поддакнуть или «сменить пластинку», быстро перестроиться. Но ничто не властно над сердцем – ни среда, ни мы сами.
Сердце, как и духовность, воспринимает и оценивает каждое жизненное явление в целостности, сразу в полном объеме, в единстве всех его плюсов и минусов. Разуму подобное не дано. Он не может понять реальность в сочетании полярных тенденций и обязательно представит происходящее в виде альтернативы, где правильной может быть только одна из сторон. Собственно, само слово intellego по-латыни означает «выбираю между».
2.2.3. Разум и интуиция. Что открывает нам истину?
Закон жизни в том, чтобы искать ответы на вопросы внутри себя.
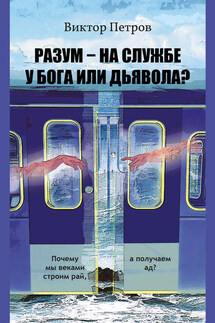

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



