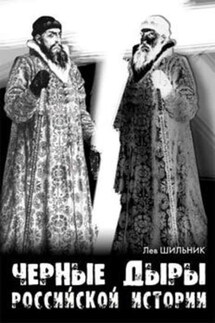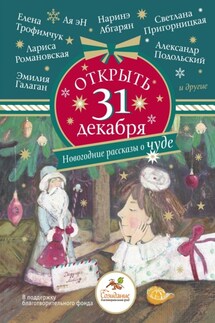Разумное животное. Пикник маргиналов на обочине эволюции - страница 19
Безо всякого преувеличения можно сказать, что здесь получены поистине удивительные результаты, заставляющие о многом задуматься. Разумеется, даже самая высокоинтеллектуальная обезьяна никогда не выучится говорить, как мы с вами: строение ее гортани не позволяет воспроизводить членораздельные звуки человеческой речи. Но зоопсихологи умудрились найти обходные пути. Так, Д. Примак обучил шестилетнюю шимпанзе Сару оперировать пластмассовыми жетонами, обозначающими вещи, понятия и отношения между вещами, а супруги Гарднеры сделали ставку на язык американских глухонемых амслен (это аббревиатура английского термина American sign language, что в буквальном переводе означает «американский язык жестов»).
Приматам, конечно, не повезло, но отнюдь не все животные столь ограничены в своих звукоподражательных способностях. Спокон веку известно, что некоторые птицы, особенно врановые и большие попугаи, умеют великолепно воспроизводить не только звуки человеческой речи, но и виртуозно подражать собачьему лаю, кошачьему мяуканию, овечьему блеянию и другим системам сигнальной коммуникации в живой природе. Интеллектуальные способности врановых тоже никогда не вызывали сомнений – вместе с попугаями они твердо удерживают по этому показателю пальму первенства в птичьем мире. Но только сравнительно недавно было показано, что некоторые птицы не просто механически копируют человеческую речь, а способны в отдельных случаях вполне прилично освоить семантику и синтаксис и общаться со своим хозяином почти на равных.
Обратимся к увлекательной книге «Непослушное дитя биосферы», на которую я в дальнейшем буду часто ссылаться. Ее автор – замечательный российский этолог Виктор Рафаэльевич Дольник. Рассказывая о своем домашнем попугае, Дольник пишет, что, осваивая человеческую речь, попугай преследует три цели: самосовершенствование, коммуникация с человеком и комментирование собственных мыслей и действий. Впрочем, не будем пересказывать, а лучше процитируем.
«Моему попугаю, например, доставляет какое-то удовольствие (сидя в одиночестве) перед тем, как чем-то заняться, сказать: „Т-а-а-к!", а кончив, сказать: „Уф-ф!" Уронив что-нибудь нарочно, произнести: „Уронил", а если нечаянно – „Упал". Если какой-то предмет не поддается развинчиванию – выругаться. А если он втихаря ломает что-то, что ломать нельзя, то на разные голоса приговаривает: „Ну что ты делаешь, Рома? Перестань! Хулиган!" и т. п. Когда попугаю очень нужно, он может вступить с вами в диалог. Например, он может настойчиво и все громче звать вас из другой комнаты, употребляя по нарастающей все варианты вашего имени – как зовет обычно вас он и как зовут другие. Услышав, наконец, отзыв, крикнуть: „Иди сюда!" Когда вы войдете к нему и спросите: „Что хочешь?", он тут же командным тоном отвечает: „Спать!" (Это значит, нужно выключить свет.) Если он хочет пить, он скажет: „Пить хочешь!" – и может вкрадчиво добавить: „Молочко". Прежде чем попробовать незнакомую пищу, спросит: „Вкусно?"»
Впечатляет, не правда ли? И ведь речь не о проворной обезьяне, которой ничего не стоит соорудить устройство для заклинивания двери или сплести крепкую веревку, а всего-навсего о несерьезном попугае с пестрой головкой с дамский кукиш.
Однако вернемся к опытам по обучению приматов человеческой речи. Без преувеличения можно сказать, что на этом поприще в последние десятилетия получены выдающиеся результаты. Американские психологи супруги Гарднеры задались целью обучить шимпанзе Уошо жестовому языку амслен, которым пользуются глухонемые в США. Успех превзошел все ожидания – у юной обезьянки обнаружились недюжинные лингвистические способности. И хотя Уошо села за школьную парту сравнительно поздно, она не только легко осваивала слова и понятия, но и быстро выучилась их комбинировать, создавая двухчленные и трехчленные конструкции. К пяти годам на ее счету было 245 различных комбинаций из трех и даже большего числа знаков. Глухонемые знакомые Гарднеров безошибочно идентифицировали до 70 % жестов Уошо. Очень скоро сообразительная обезьяна стала толковать выученные знаки, так сказать, расширительно, то есть использовать их в непредусмотренных экспериментаторами ситуациях. Более того – она изобретала новые знаки! Оказалось, что языковые навыки шимпанзе вполне сопоставимы с речевыми достижениями детей такого же возраста. Во всяком случае, по числу и сложности комбинаций и характеру семантических связей внутри них Уошо ничуть не уступала пяти-шестилетним детям.