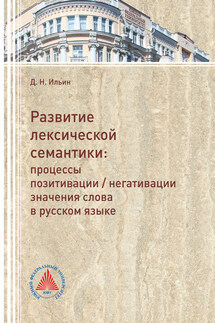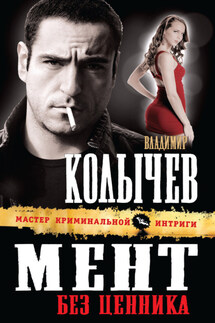Развитие лексической семантики. Процессы позитивации / негативации значения слова в русском языке - страница 8
В. В. Виноградов допускает, что «на основе экспрессивно-синонимического значения могут развиваться другие, но только фразеологически связанные значения слова» [Виноградов, 1977б, с. 173], то есть те, которые строго связаны с определенными контекстами. Безусловно, слово, содержащее совершенно определенную оценку предмета, будет употребляться гораздо реже своего нейтрального синонима и в зависимости от ситуации (ср. аромат – запах – смрад – вонь). В. В. Виноградов пишет: «Слово не только обладает грамматическими и лексическими, предметными значениями, но оно в то же время выражает оценку субъекта – коллективного или индивидуального. Само предметное значение слова до некоторой степени формируется этой оценкой, и оценке принадлежит творческая роль в изменении значений. Экспрессивная оценка нередко определяет выбор и размещение всех основных смысловых элементов высказывания» [Виноградов, 1972, с. 21].
Д. Н. Шмелев на вопрос о том, включается ли экспрессивная «окраска» в семантику слова, отвечает так: «Экспрессивно-стилистическая окраска – это не окраска слова как звукового комплекса, а та призма, сквозь которую воспринимается “смысл”, связанный с данным звуковым комплексом. Трудно в настоящее время усомниться в необходимости различения “предметно-логического содержания” слова и его экспрессивно-стилистической окраски, а также в необходимости отграничения случаев индивидуального и контекстуального экспрессивно-стилистического употребления слова от устойчиво закрепленных за ним экспрессивно-стилистических функций. Однако никому не придет в голову рассматривать последние независимо от предметного значения слова; почти столь же нереально, в конечном счете, изучение значений слова без учета возможностей его применения, то есть его стилистического диапазона» [Шмелев, 1964, с. 111]. «По-видимому, – продолжает ученый, – … целесообразнее, говоря о “лексическом значении”, включать в это понятие только те экспрессивные элементы, которые устойчиво и однозначно характеризуют самое явление, которое отображает слово (кляча, донос, гордыня, хлипкий, уплетать и т. п.), не включая в него тех стилистических элементов, которые характеризуют стиль и назначение речи или говорящих (архаизмы, диалектизмы, профессионализмы и т. д.)» [Там же, с. 112].
Таким образом, Д. Н. Шмелев предлагает не рассматривать коннотативный элемент как единый эмоционально-экспрессивно-оценочный комплекс, а разделить его на составляющие, по принципу вхождения / не вхождения в структуру значения. «Входящий» компонент должен характеризовать отношение к обозначаемому предмету, а это уже специфическая черта оценочности. Но если оценочность входит в структуру значения на правах отдельной семы, это уже не «окраска», не дополнительные «созначения».
Другие исследователи отмечают, что собственно-номинативная и экспрессивно-оценочная лексика «частично перекрещиваются, поскольку экспрессивная функция очень часто развивается и закрепляется за отдельным лексико-семантическим вариантом многозначного слова в результате вторичной номинации, и, таким образом, номинативное и экспрессивное значения могут совмещаться и реально совмещаются в семантической структуре одной лексемы» [Лукьянова, 1980, с. 3]. Таким образом, здесь автор максимально сближает экспрессивный и оценочный компоненты с денотативно-сигнификативным содержанием значения лексико-семантического варианта, и это сближение, на его взгляд, особенно явно обнаруживается при развитии полисемии: «Переносные лексико-семантические варианты, особенно метафорические, являются универсальным и наиболее мобильным средством выражения эмоционального отношения и социальных оценок говорящего к предмету речи; они составляют значительную долю в общем объеме словаря русского языка, на что обращают внимание многие исследователи» [Там же].