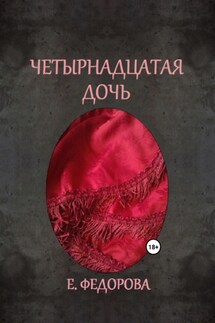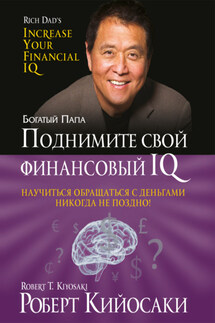Рефлексия. Памяти Владимира Лефевра - страница 13
Согласно Платону и всей античной традиции (включая, в частности, торговую практику), всякая вещь по понятию вещи не является таковой без своего символа. В торговле это выражалось в том, что товар становился товаром лишь при наличии у него «символа» – названия или описания этого товара, включая его наименование и стоимость. Именно маркировка, говоря современным языком, делает товар товаром, а вешь – вещью. Без символа вещь не вещает ничего и является просто предметом, неопознанным объектом. Анаксагоровское буйство и бесчинство вещей – из хаоса дорефлектируемого мира.
Когда мы обсуждаем рефлексию деятельности, то мы немного лукавим: деятельность нерефлексируема, рефлексируема лишь ее мыслительная составляющая. Рефлексировать «он ему как даст, а он ему как врежет, а он опять ему как даст, а она взяла и ушла с другим» могут лишь сопливые и неразборчивые подростки.
В этом месте шуточкой не отделаешься и, чтобы утверждать, что деятельность нерефлексируема, необходимо поднимать не только весь этот пласт, но, прежде всего, восстанавливать теорию деятельности раннего Г. П. Щедровицкого и истоки этой теории, заложенные в логических разработках А. А. Зиновьева.
Деятельность, согласно этим представлениям, втягивает в себя человеческий материал, но существует независимо и самостоятельно от людей. Так и история, субъектом которой никто не является (есть лишь субъекты действий и событий, имеющих историческое значение). История не пишется – она существует сама по себе и может быть описана в разных интерпретациях и пониманиях историков.
Деятельность формируется по законам и в логике формирования деятельности, поэтому ее практические воплощения разнятся лишь декоративно. А раз так, то существуют универсальные логические, онтологические, организационные схемы той или иной деятельности, независимые от их интерпретаций, но вмещающие в себя и допускающие любые интерпретации.
В качестве примера такой схемы приведем схему рынка (см. рис.).
Схема рынка
Утверждается, что марка производителя всегда больше марки потребителя, но на рынке (в отличие от обмена) встречаются не эти позиции, а продавец и покупатель, при этом марка продавца есть сумма издержек производства и действующей в данное время и в данном месте нормы прибыли, а марка покупателя отражает его представления о стандартах качества жизни. Пространство ценообразования взаимовыгодно (любая точка этого пространства имеет цену выше, чем марка продавца и ниже, чем марка покупателя) только потому, что в сознании покупателя образ (символ) жизни всегда превосходит саму жизнь.
Эта схема применима к любому рынку, восточному и западному, античному, средневековому и современному, этот механизм работает и на Коптевском колхозном рынке и на Нью-Йоркской бирже, в условиях разгула демократии и деспотизма, в мирных и военных условиях – она универсальна.
И в ней нет места для рефлексии.
Рефлексия возникает у А. Смита, П. Рикардо, К. Маркса, М. Зомбата, Ф. Броделя – у тех, кто, наблюдая реальную экономику и проявления рынка как деятельности, пытается вычленить из этого хаоса событий, фактов и катастроф конструктивные константы существования, законы. И мы вновь возвращаемся к схеме рефлексии по Гегелю, к тому, что рефлексия возникает лишь при сравнении реальности с ее теоретическим (проектным, символическим и т.п.) отражением. «И увидел Бог, что это хорошо» (Быт.1.12,18, 25) – троекратное описание Божественной рефлексии при сравнении Им своего замысла с воплощением, где и к тому, и к другому относится слово «хорошо».