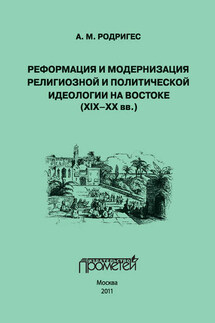Реформация и модернизация религиозной и политической идеологии на Востоке (XIX-XX вв.) - страница 11
Ислам, как и другие восточные вероучения, в период колониально-капиталистической эксплуатации подвергся вмешательству колонизаторов. Как и повсюду, главным объектом этого вмешательства стали правовые вопросы. Во-первых, с ними было связано юридическое оформление статуса тех представителей феодально-духовного сословия, которые перешли на службу в колониальную администрацию (в качестве консультантов по шариату при гражданских судах, служащих различных учреждений по исламским делам). Во-вторых, реформа права вызывалась необходимостью перестройки шариатского судопроизводства применительно к действию механизма метрополия – колония. Колониальные власти настойчиво стремились к тому, чтобы передать гражданским судам решение как уголовных дел (а к ним относилось также участие в антиколониальных выступлениях), так и вопросов, касающихся собственности мусульман. Практически же эти акции затрагивали тех, кто приходил в соприкосновение с системой метрополия – колония. У большинства мусульман, живших в мире религиозно-традиционных устоев, «происки христианского Запада» в любом их варианте вызывали болезненно острую и резко негативную реакцию. Ее порой пытались использовать в антиимпериалистических целях те реформаторы-националисты, которых заботила проблема массовой поддержки национально-освободительной борьбы. Но на этом пути их ждали немалые трудности, связанные с преодолением влияния и противодействия хранителей средневекового исламского наследия, тем более что среди последних были духовные лица, поступившие на службу к колонизаторам и пользовавшиеся их поддержкой (159, с. 92–95).
Наряду с задачами осовременивания мировосприятия и быта мусульманских масс, реформаторам нужно было решать вопросы классово-политической консолидации исламской прослойки национальной буржуазии, повышения ее общественной роли, конкурентоспособности и т. д. И чем более отдельные сферы реформаторской деятельности выражали общественно-буржуазные потребности, тем выше была степень освоения культурно-просветительского и социально-организаторского опыта капиталистического Запада. В связи с этим далеко не случайна, в частности, возрастающая степень европеизации содержания и методики преподавания в модернизированных исламских заведениях по мере восхождения от начального образования к высшему. Однако наряду с университетами, чье обновление на протяжении многих десятилетий совершалось изнутри, были и такие, которые имели изначально модернистский облик.
По западному типу создавались также многие просветительские ассоциации (Мусульманское просветительское общество в Коломбо – 1891 г., Мохаммадия в Индонезии – 1912 г. и т. д.), молодежные и студенческие объединения (студенческая корпорация Алигарха; Ассоциация молодых мусульман на Цейлоне – 1910 г. и т. д.), скаутские организации (в Египте – 1929 г., Марокко – 1932), профсоюзные организации во втором десятилетии XX в. и др. (7, с. 129).
И все же задолго до краха колониальной системы появились симптомы ограниченности модернизаторских возможностей исламского реформаторства. Ранее всего это случилось в сфере политики, где за редкими исключениями мусульманские националисты не удерживались сколько-нибудь значительное время в авангарде национально-освободительной борьбы. Переход в арьергард, а порой и отход от антиколониальных выступлений, предопределялся исходной узостью конфессионально-этнической позиции при этнической (да и религиозной) неоднородности большинства стран Востока.