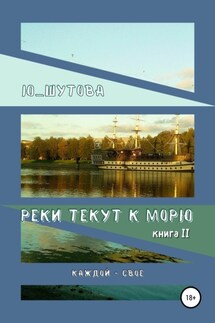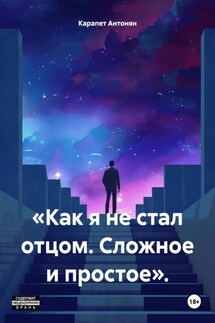Реки текут к морю. Книга I. Курс лечения несчастной любви - страница 26
Если есть в кармашке двадцать копеек, можно подняться от реки в парк. Тут прямо на горке карусели всякие. Чашки, что водят хоровод друг за другом, качели-лодочки и на высоком столбе карусель «Ромашка». Сядешь, цепь перед собой на крючок накинешь, и полетели… Над рекой, над зелеными верхушками деревьев, над красной стеной Кремля.
***
– Люсенька, ну почему опять тройки? И по русскому, и по геометрии. Восьмой класс же. Ну как отчислят. Ты же умная девочка! А пойдешь в пэтэу с троечниками, – бабушка ворчала потихоньку, вздыхала.
Мать только что как следует отругала Люську за тройки. А чего такого-то? Год еще только начался, успеет еще исправить. Ни в какую путягу она не собирается. Она в Ленинград уедет – в театральное. И тройки, кстати, потому что некогда было. Придумали контрольную по геометрии в начале учебного года давать. А у них – спектакль ко Дню учителя. Суперский. По «Ревизору». Подкороченный слегка, чтоб в тридцать минут уложиться. Другие же тоже выступать хотят. Называется «Сцены из…» А у Люси самая главная роль: городничиха. Ну да, главная. На ней все действие в этих «Сценах» держится. Каждый день после уроков репетируют. Не до геометрии.
Но бабушку жалко. Она переживает. Сама-то всего три класса в школе успела закончить. Не до учебы было: сначала матери помогала, та слегла на несколько лет, ноги отказали, потом вообще – революция.
– Ну ба-а, девки вон вообще на одни тройки учатся. И ничего. Их не ругаете.
Бабушка печет булочки с маком. Сейчас уже будет доставать противень из духовки. Поэтому Люся с кухни не уходит, терпит ее ворчание.
– Так что ж, Люсенька, у них-то одна память на двоих. Им трудно. А ты, вон, еще в четыре года «Бородино» наизусть рассказывала. На елку к нам в театр придешь в костюмчике гусарском… Помнишь костюмчик-то? Как начнешь: «Скажи-ка, дядя…», дак тебя не остановить, пока до конца не дойдешь. Дед Мороз, Василий Петрович наш, уж и так тебя, и этак: «Молодец, девочка, вот тебе пряничек…» А ты, знай, шпаришь.
Люся помнит. И костюмчик, его бабушка сшила по портрету Лермонтова: ментик с эполетами, мундирчик коротенький, темно-зеленый, кивер. Каждый год она в нем на Новый год фотографировалась. От снимка к снимку костюм становился все меньше. Нет, конечно, не так. Это Люся росла. И как на елках с «Бородино» выступала – помнит. Это еще что. Вот ее одноклассница Светка Трифонова, та с «Железной дорогой» Некрасова отжигала. Надоумил же бог родственничков, родителей или бабку, читать маленькой девочке это страхопудило. Встанет ангелок в беленьком платьице с блестками на стульчик и оттуда: «Сё там? Тайпа мейтвецов!» – «Представляю, как народ веселился».
Люся выросла в театре… Нет, к сожалению, к артистам, к этому уникальному, замешанному на особых дрожжах, племени она не имела никакого отношения. Она жила там, за сценой, в кулисах. Вряд ли кто-то замечал маленькую девочку, прошмыгнувшую темным коридором, или играющую в одиночестве среди реквизита. Ее время начиналось утром, пока артистов в театре не было, и заканчивалось с их приходом. Бабушка Юля работала в театре дежурной и гардеробщицей. Была одной из тех незаметных женщин, что играли Его Величество Театр, как короля играет свита. А вы думали, театр играют только артисты? Ха-ха. Люся с самого детства знала театр с изнанки. Задний двор за высокой кирпичной стеной: здесь выбивали костюмы – фашистские мундирчики со свастикой и средневековые камзолы, шитые серебряной тесьмой. Полутемное фойе с роялем и картиной Айвазовского «Девятый вал». Буфет для артистов на втором этаже, куда простым смертным хода нет, и где в очереди за граненым стаканом чая и бутербродом с сыром стоят Баба Яга – тот же Василий Петрович – Дед Мороз и соседка по дому Полин-Митревна – костюмерша. В костюмерной Люсе доставались самые красивые лоскутки.