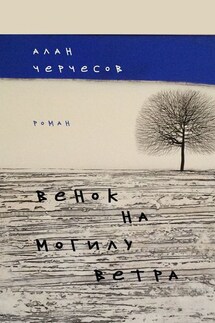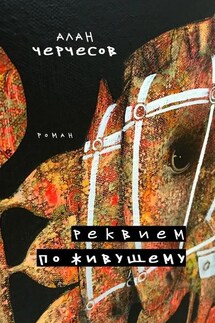Реквием по живущему. Роман - страница 24
А когда он все ж таки побеждает и поднимается во весь рост на утесе, кое у кого блестят от влаги глаза, и это видно даже при закате, который покорил он только что, прочно впечатав в него свою тень. И лишь теперь мы вспоминаем, что голодны, что проторчали здесь целый день напролет, и чувствуем, как затекли у нас шеи. Но напоследок, прежде чем расстаться, видим в закатном огне, как четко скроенный силуэт, слегка отвернув голову, что-то к ней приставляет и держит перед собой на вытянутой руке. Видим, как потом осторожно садится, свесив ноги с утеса, и некоторое время сидит без движения, а после опять припадает к бурдюку, и сил глядеть на то, как спаивает он неистребимое свое одиночество, больше нет, потому что все уже просто устали – целый день следить за тем, как доказывало оно себе собственное бессмертие…
Но тогда, повторял отец, мы еще не ведали, причем тут утес. И только спустя восемь месяцев узнал про то я, и к тому времени могли бы и другие догадаться – все, кроме Сослана, ибо тот тогда уже почти ослеп. И глаза его, увидевшие такое, чего не приведи Господь увидеть даже врагу, впустили в себя болезнь и покрылись белым туманом. И, говорил отец, туман густел в них толстыми бельмами, застя солнечный свет и безжалостное время, запирая его, Сослана, в вечном холоде зрячей памяти. Так что он был единственный, кто до конца осознать не мог. И было это к лучшему…
А по весне, говорил отец, как распутица кончилась, дед твой снова придумал, как разбогатеть. Только теперь, конечно, он и не собирался тягаться с Одиноким. Кое-что другое на ум ему пришло.
Раз как-то подозвал меня и говорит:
– Сходи к Урузмагу в кузницу. Просто стой там и смотри, а после придешь и скажешь, что интересного увидел.
И, конечно, сперва не понял я, зачем ему понадобилось на Урузмагову кузницу моими глазами смотреть, только ведь и спрашивать не положено.
Ладно, сходил, постоял с другими, поглядел, как Урузмаг Маирбеку лемех чинит, как ножницы правит, запомнил, как по стенам железные крючья висят, подковы да очажные щипцы. На всякий случай сосчитал, сколько народу праздно стоит и глазеет, как в хадзар вернулся – пересказал подробно все, а дед твой слушал и довольно головой кивал. А потом прищурился и спросил:
– Только и всего? Маловато. Иди еще смотри.
И я пошел, и на этот раз задержался подоле, и сосчитал уже не только людей, не только крючья и подковы, но даже штыри, на которых они висели, и штырей оказалось ровно столько, сколько крючьев и подков, да только это было с самого начала ясно. А как вернулся, дед твой уже посмеивался, слушая, чтó я ему рассказываю, и ласково колени свои поглаживал. А потом лукаво так спрашивает:
– Неужто все? Неужто ничего интересного? Иди проверь, да будь внимательней!
Так что теперь, сам понимаешь, терпенье мое лопнуло, а от обиды в суставах заныло, и в мозгу моем пронеслось: старик свою хитрость тешит. Ну хорошо, пусть его, только и я ведь могу часок-другой потешиться, а для того его хитрости на нас двоих с лихвой хватит. Так что вышел я со двора вроде бы совсем послушный, но вот двинулся немного не туда. И, видит Бог, сидя на бережку и камушками играя, тешился от всего сердца, представляя себе, как тешится в доме твой дед, а после вздремнул чуток, давая ему время всласть натешиться, ну а потом, дождавшись вечера, подождал еще малость, покуда он тешиться не устанет, и еще немного, чтобы отбить у него охоту тешиться за чужой счет. Ну а когда и сам притомился тешиться, поднялся и отправился к натешившемуся до злобы старику. И он сердито бросил мне: