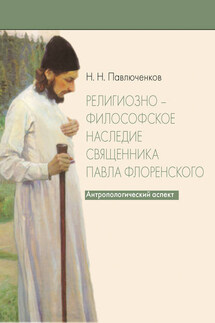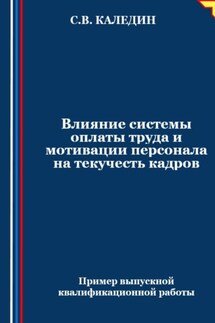Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект - страница 6
В онтологии Флоренского особенно очевидно, что механизм «припоминания» должен действовать у человека наиболее интенсивно в самом раннем детстве, в тот период, когда степень проявления «духовной сущности» в эмпирии еще наименьшая. В этом смысле важен даже факт появления младенца на свет раньше положенного срока. Так, замечает о. Павел, множество гениальных людей рождались недоношенными младенцами, «а при созерцании таковых всегда чувствуется какой-то мистический луч иных миров, на младенцах почивающий, словно около таковых не успело еще погаснуть потустороннее сияние и ноуменальный венчик вечности (курсив мой. – Н. П.)»[51].
В своих «Воспоминаниях» безусловным возведением всего своего мировоззрения к изначальным детским интуициям о. Павел хочет наиболее сильно утвердить основу своей антропологии: наличие у всей эмпирической твари вечного, уже освященного и обоженного «корня». Поэтому данный текст из наследия Флоренского очень важен прежде всего с нужной нам антропологической точки зрения, хотя дает также и достаточно ценный биографический материал, позволяющий увидеть детство и юность о. Павла, какими они представлялись ему в 40-летнем возрасте.
«Мистический» и «духовный» опыт
В рамках нашей темы важно прежде всего обратить внимание на то, как о. Павел раскрывает в «Воспоминаниях» основные черты своего отношения к природе и человеку из рассказа о семье, в которой он родился и вырос.
Семью, в которой он вырос, о. Павел называет «уединенным островом», где происходит сознательная изоляция себя как от своего прошлого (от своих предков), так и от настоящего, от окружающей общественной среды. И отец – Александр Иванович Флоренский (1850–1908), и мать – Ольга (в армяно-григорианском крещении – Саломия) Павловна Сапарова (1859–1951) «выпали» из своих родов, разорвали все связи со своими предками, желая жить на стороне и самостоятельно. «Была такая ужасная полоса Русской истории, – пишет по этому поводу о. Павел (запись 1916 г.), – и сколько душ искалечено ею, сколько чистых сердец сделались несчастными и беспризорными»