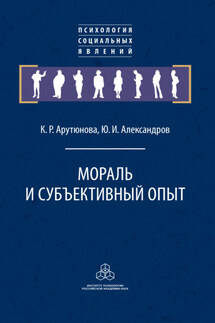Роман графомана - страница 43
… Распивать спиртное с начальством не являлось обязаловкой. Но если такое случалось, мы не возражали. Тем более что К., в то время выпивавший крепко, никогда не терял голову. Рассказчик он был искушенный, изысканный и представлял собой редкий случай эмигранта-аутсайдера, раз и навсегда отделившего себя от солженицыных-бродских. Он отдавал им должное, а вот восхвалителей, их на дух не переносил. И все приговаривал: как я ненавижу этих идиотов! Бездарны, глупы и сколько самомнения. Кончились попойки внезапно – прямо с работы К. увезли на «скорой». Операция на сердце. Шунтирование. После чего он «завязал». Марк встречался с К. уже в пабе. За одной-единственной пинтой пива. Темы их разговоров мы нередко продолжали в наших междусобойчиках. К примеру, замеченная К. семантическая ошибка во фразе Маркса «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» приводила к забавному выводу: ведь неотступно бродит то, что уже умерло. А коммунизм в Европе во времена Маркса еще и не родился.
Как сочинителю Марку не очень удавалось вписаться в чуждую русскому словеснику среду. Когда принялся за «Роман Графомана», уже видел особенности культурных традиций Запада. Пробовал избегать избитое, затасканное, заезженное. Мотал на ус, что искусство не терпит повторения. В жизни можно рассказать тот же самый анекдот трижды и, трижды вызвав смех, оказаться душою общества. В искусстве подобное именуется клише. По мере сил он старался выбраться из этих стандартов. Но иногда заигрывался. На выставке русского искусства, посвященной столетию революции 1917 года, в Королевской академии живописи, отыскав картину Исаака Бродского «Ленин и демонстрация», вспомнил про Андрея Синявского. Тот прогуливался под руку с Пушкиным, с Гоголем.
– А чем я хуже, – глумился Марк, – снял виртуально со стены этот портрет Ильича и прошелся с ним по залам. Чтоб вождь мог, спустя век, посмотреть на себя, вспомнить годы эмиграции в Лондоне, революцию и закидать галошами картины Кандинского, Малевича, Петрова-Водкина, Родченко…
– Почему галошами? – засмеялся я.
– Ну, известно, вождь питал отвращение ко всяким измам, предпочитая графику, служащую делу Революции. Две трети картин из Третьяковки и Русского музея на эту выставку в Лондон вообще бы не попали. А история с галошами из гламурной биографии вождя. Златокудрый Володя-херувимчик, живой мальчик, отличник, шалун, правдолюб, как оказалось, любил пулять галошами из прихожей в гостей, сидевших в столовой. И, возможно, наказанный, а возможно, и нет, из-за угла с восторгом наблюдал, как гости пробуют отыскать свою пару галош, как кряхтят, пыхтят и чертыхаются в его адрес.
Марка тут явно занесло. Ленин не обязан был разбираться в измах. Другое дело, вождь не должен был преследовать художников, как, в свою очередь, и Хрущев в московском Манеже. Вон, Гарри Трумэн, американский президент, презирал модерн. Предпочитал Гольбейнов и Рембрандтов. И частенько отправлялся в Национальную галерею. Там однажды оставил запись: «Приятно посмотреть на совершенство и потом вспомнить халтурное дурацкое современное искусство». И только. Хрущев же отправился в Манеж, чтобы громить абстрактную живопись, обзывать художников…
– Не скажи, – проворчал Марк, – мы жили в стране, где кидаться в оппонентов галошами считалось нормой. Книги Ленина об экономике – «Развитие капитализма в России», о политике – «Что делать?», о философии – «Материализм и эмпириокритицизм» – сплошное «швыряние галошами» в противников.