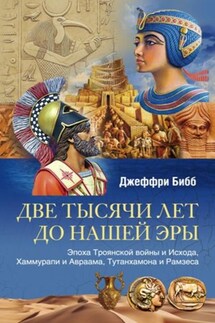Россия–Грузия после империи (сборник) - страница 2
С падением коммунизма начинается новый этап, который Борис Буден (Buden, 2009, 66) характеризует как фазу «исторической амнезии»: в политическом дискурсе собственная национальная история продолжает существовать лишь как сплошной пробел, который в рамках культурного процесса заполняется симулякрами. Причем такого рода амнезия в равной степени характерна как для «национально освобожденных», так и для тех, кто усматривает в распаде СССР геополитическое поражение (разграничение между этими двумя группами отнюдь не совпадает с национальными границами). Такого рода «амнезия» сближает «восток», постсоциалистическое пространство, «второй мир» с бывшими британскими, французскими, испанскими, португальскими, немецкими, бельгийскими и т. д. колониями, позволяя интерпретировать десятилетия советской власти именно как разновидность колонизации/колониализма[3]. Такая трактовка неизбежно возникает из логики самого дискурса, являясь своего рода смысловым дополнением к историческому факту имперского гнета. При этом в глазах представителей национальных республик, не идентифицирующих себя как русских, сама советская власть нередко выступает в роли сугубо внешнего фактора и определяется именно как «русская» власть, в то время как распад СССР преподносится в рамках публичной национальной самопрезентации как национальное освобождение, описываемое в традициях антиколониальной борьбы (Ibid.).
Литературные связи и развязки
Литература, в свою очередь, представляет собой весьма полезный материал, который позволяет заглянуть за кулисы такого рода геополитических нарративов, поскольку, с одной стороны, политически значимые мыслительные категории неразрывно связаны как с литературными образами «России» и «Грузии», так и с русско-грузинским мифом; а с другой стороны, именно литература традиционно является тем местом, где происходит культурная рефлексия, где «устоявшееся» знание подвергается критическому осмыслению, где сталкиваются друг с другом идентичности, стереотипы и способы восприятия действительности. Как минимум до начала постсоветской эпохи литература оставалась важнейшим средством общественного самосознания, как в самом Советском Союзе, так и в Восточной Европе в целом. В эпоху Интернета и социальных сетей статьи данного сборника призваны, помимо всего прочего, продемонстрировать потенциал научного изучения литературы в ее общекультурном контексте.
Традиционно Грузия занимает важное место в системе русской культуры, играя в ней роль некоего «Ориента», в котором, с одной стороны, особым образом сплелись представления о «Юге» и «Востоке» (ср.: Layton, 1994); но, с другой стороны, Кавказ – вторичный Ориент, потому что сама Россия уже является «вторичной империей» по отношению к Западу (Tlostanova, 2010, 64, 68, 70). Кавказ играет по отношению к России роль домашнего иного, «юга бедного севера» (Тлостанова, 2012, 99, 103). Оставаясь при этом важным местом для проецирования инаковости, Грузия в то же время символизирует имперское богатство России. Эта асимметрия прослеживается на протяжении всей истории взаимоотношений двух стран, представляя Россию, как правило, в роли гегемона, а Грузию – в роли «объекта», которым гегемон желает овладеть. Однако эта упрощенная картина очень скоро обнаруживает весомые противоречия. Так, уже в самом начале эпохи романтизма Грузия выступает не только в роли маргинализированной жертвы имперской политики, но и приобретает образ страны свободы и вдохновения, а позднее становится пристанищем для инакомыслящих представителей имперской элиты, перенимая при этом созданный «оккупантами» образ рая на земле. Благодаря своей древней традиции государственности, ранней христианизации, наличию собственного языка, письма и высокой культуры Грузия обладает значительным символическим капиталом (в терминологии Пьера Бурдьё), который в равной степени служил фундаментом для национального движения и притягивал к себе советские элиты. В то же время огромное количество грузин осваивало имперское, а затем и советское знание, чтобы на его основе строить успешные карьеры. Таким образом, на протяжении всего существования СССР «грузинский элемент» все теснее вплетался в единую советскую культуру. Наглядным и, пожалуй, наиболее известным примером такого сплетения служит фигура Иосифа Виссарионовича Джугашвили, который под именем Сталин стал живым воплощением тоталитарного Советского государства. Полушутя называя себя «русским грузинского происхождения»





![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)