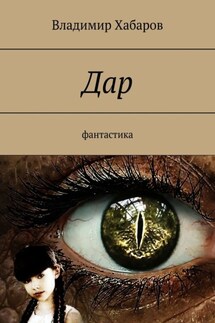Россия и ислам. Том 3 - страница 16
Особое значение, полагает Розен, имеет правильная оценка шариата.
В рецензии на «Среднеазиатский Вестник» (Ташкент, 1896) Розен, отвергая – как невежественную и злобно-пристрастную к исламу – статью некоего Дингелынтадта «Неведомый мир. Современные мусульмане», доказывает (почти буквально повторяя здесь Гольдциэра и Снук-Хюргронье), что шариат «далеко не является безусловным и единственным регулятором современной мусульманской жизни, как он им не был и в прежние времена»>80. Розен тут же спешит отметить и сугубо практический эффект этого своего взгляда на подлинный статус шариатских установлений в социокультурной и политической жизни мусульманских общин: у колониальной администрации должен исчезнуть (внушаемый ей, добавлю я тут же, предшествующими Розену авторами, в частности, Н. Ханыковым) «почти суеверный страх перед словом «шариат». В ходе исследований на местах, заявляет Розен, окажется, что «весьма многое из того, что считается или выдается муллами за шариат, или даже и входит действительно в шариат, в массах народных уже не считается за шариат и что, напротив того, другое, не имеющее ничего общего с шариатом, признается народом за святыню, которую нельзя трогать… Дальше такие наблюдения покажут, кого собственно следует считать настоящими духовными вождями народа, которым он верит и следует, официальных ли представителей шариата, вроде разных мулл, казиев и т. д., или же представителей дервишеских орденов, ишанов и тому подобных лиц. Все это одинаково важно и для науки и для жизни…»>81
В данном случае правомочно говорить, продолжает Розен, об «уступках, которые теория вынуждена была сделать жизни»>82. Но имеется в виду теория, предшествующая «новой науке об исламе», адептом и пропагандистом которой был сам Розен, – теория, казавшаяся по крайней мере дисфункциональной, потому что она пыталась редуцировать такую гетерогенную, полиморфную, обладающую своими особыми пространственными параметрами, своими временными ритмами, своей уникальной внутренней организацией, как ислам, лишь к одному из ее составных элементов – шариату, сколь бы ни была важна его и реальная, и особенно символическая значимость. Скорее интуитивно, нежели в ходе систематической методологической рефлексии, но в общем-то довольно отчетливо, Розен осознал, что целое – Ислам – характеризуемся такими специфическими чертами и закономерностями, которые не присущи отдельным его компонентам, и что поэтому его нельзя понять как функционирующий только на основе закономерностей составляющих его частей. Эта цельность обладает лишь ей имманентными типами устойчивости, которые могут более или менее безболезненно следовать друг за другом, благодаря, скажем, отходу от институционализированного ислама в лице прежде всего шариата в сторону суфизма.
Иными словами, Розен с уверенностью включает в самый главный ряд познавательных установок российской ориенталистики идею эволюции мировоззренческих установок и ценностей, идеалов и нормативных структур, догматических каркасов и всех по существу формализованных и неформализованных звеньев категории «Ислам» – идею, всего тщательней обоснованную такими учеными, как А. Шпренгер, А. Кремер, X. Снук-Хюргронье и особенно И. Гольдциэр. Ведь тогда, когда формировалась «новая наука об исламе», становилось все ясней, что этой науке, стремившейся быть наукой точной, строящей свои выводы на основе строго доказанных положений, чужд актуалистический метод с его неоднозначными историческими экстраполяциями: решать проблемы эволюции мусульманского мира она могла только с позиций последовательно-исторического подхода. А таковой рассматривает саморазвитие, самоорганизацию и самоусложнение ислама и связанных с ним самых различных по своей структурной и функциональной организации, по своим сущностным характеристикам и многогранным потенциям явлений, как последовательный процесс, в основе которого в качестве «заводной пружины» лежит своеобразный механизм «естественного отбора». Он-то и двигает мусульманский Восток то по прогрессивным, то по регрессивным путям развития – путям, во многом детерминированными теми же историческими законами, которые определяют судьбы европейских и европогенных обществ.