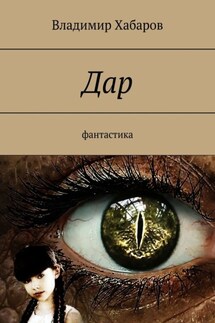Россия и ислам. Том 3 - страница 32
Смирнова делает вывод, весьма важный с точки зрения чисто политической: «…такое одностороннее коснение в общем религиозно-нравственном миросозерцании не может не влиять парализующе на уравнение во взаимных отношениях татарского народонаселения к коренному русскому, окончательное сближение с которым не может не быть желательным в видах обоюдной их пользы, как членов одного и того же государства»>56.
Интересно, что Смирнов вовсе не выступает как сторонник полной – или даже частичной – замены традиционно-татарских образовательных и прочих культурных институтов, в особенности печати, русско-христианскими. Напротив, он дает «образованным мусульманам» самые различные советы – советы квалифицированные и дельные – на темы о том, как реформировать школьные курсы: так, надо «воспользоваться для этого знакомыми народу обычными формами хикяйетов и притчей с подкреплением известных истин подходящими кораническими текстами», и вообще использовать общемусульманские средства «для совершенно противоположных целей»>57. А это «истинные», т. е. европогенные, «просвещение» и «культура», ничего общего, как мы убедились, не имеющие с программой тотальной христианизации и русификации татар, да и прочих российских мусульман.
Во всем этом мне видится очередное доказательство того, что в сознании множества русских интеллектуалов, и в особенности востоковедческой светской профессиональной элиты, идея иерархически упорядоченной поликонфессиональной империи – империи, качественно дифференцированной с онтологической точки зрения, – стала заменяться идеей такой империи, в которой все входящие в нее религиозно-этнические общины принадлежат одному и тому же уровню бытия. Отныне они должны не противопоставляться один другому, а стать взаимозависимыми и даже – пусть и в далекой перспективе – объединенными в некое целое, далекое, впрочем, от идеала тотальной аксиологической унификации. Категория «просвещение» выступает, таким образом, как наиболее действенное средство не только опосредования традиционных оппозиций (Ислам/Христианство; Русские/Татары и т. п.), но и их «смешения» в синтетическом единстве на основе внедрения европейского типа (при сохранении, однако, «мусульманской самобытности») образовательных институтов.
Им же предназначено утверждать автономную индивидуальную человеческую сознательность («рациональность»; «целесообразность») в качестве непременного атрибутивного прообраза, модели организации как индивидуального процесса жизни, так и миропорядка, общественного устройства, экономической жизнедеятельности и т. п.
Каким бы отрицательным ни было отношение Веселовского к исламу, он тем не менее оказывался вынужденным – как, впрочем, и остальные крупные представители русской ориенталистики конца XIX – начала XX веков – отыскивать нечто вечно-единое в гигантском клубке непрерывно переплетающихся друг с другом политических, экономических, культурных и прочих нитей, нечто такое, что позволило бы представить их все в качестве Ислама, мультиструктурного, многоступенчатого, многопредметного объекта. Но для такого объекта быть – значит быть устойчивым к изменению, сохраняя в принципе свои явные и особенно неявные доминирующие характеристики и направления динамики. И с этим фактом приходилось волей или неволей смиряться всем – и толерантным либералам, и упрямым консерваторам, и мечтавшим повернуть историю вспять, к блаженным временам крестовых походов, наиболее экстремистским представителям миссионерства.